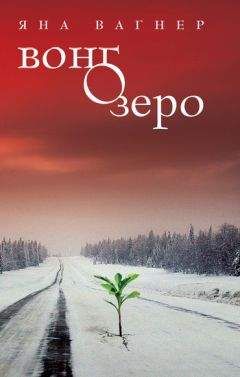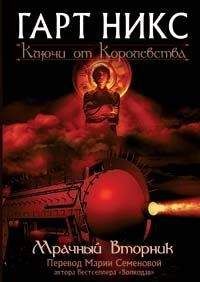Ознакомительная версия.
— Мам, — сказал Мишка за моей спиной, — все в порядке, мам. Доктор говорит, все будет в порядке, — и я кивнула, не отнимая рук от лица, думая при этом — не то, не то, значит, будет что-то еще.
Не прошло и нескольких часов, как стало ясно, что эти затянувшиеся, бесконечные двести последних километров будут для меня сложнее, чем вся предыдущая дорога. Может быть, из-за того, что Сережи со мной в машине не было — он остался за рулем Лендкрузера и забрал с собой доктора, на случай, если папе снова станет хуже; перед тем как опять оставить нас одних — еще раз, в который раз, — он взял с меня слово не пользоваться рацией без крайней необходимости, «ничего не говори, но не выключай — ты поняла? поняла? посмотри на меня! Дорога простая — сто двадцать километров сворачивать вообще некуда, а потом — направо, и там уже попетляем, но ехать будем медленно, ты не отстанешь, не бойся, слышишь, ничего не бойся». Может быть, оттого, что Марина, поменявшаяся местами с доктором и сидевшая теперь с девочкой на коленях прямо за моей спиной, стараясь держаться подальше от пса, говорила без остановки, тонко, монотонно, «я так испугалась, так испугалась, он просто вдруг повалился вперед, на руль, хорошо, что мы медленно ехали, он бы умер, Аня, он бы точно умер, как хорошо, что у нас есть доктор, Аня, я же говорила, я говорила»; я сжимала зубы и старалась не слушать ее, но она никак не могла замолчать и пыталась поймать мой взгляд в зеркальце заднего вида и даже, кажется, улыбалась — неуверенно, искательно, «теперь все будет хорошо, вот увидишь, Аня, вот увидишь», заткнись, думала я, заткнись, ради бога, за два года нашего бестолкового соседства я не слышала от тебя столько слов, ничего не будет хорошо, не может быть хорошо, ты мешаешь мне думать, мешаешь мне ждать, мы еще не заплатили, не заплатили, так не бывает.
Ничего в этой жизни еще не доставалось мне бесплатно — ни одной удачи, ни единой победы, трехмесячный Мишка в машине «Скорой помощи», хмурый доктор с запахом перегара — «молитесь, мамочка, чтобы довезли», и я молюсь, забери все, что хочешь, все, что угодно, только пусть он останется со мной, и когда через полгода у меня забирают Мишкиного отца, забирают совсем, бесследно, словно его и не было никогда, я не ропщу, я почти не удивляюсь, потому что сама назначила цену, не торгуясь; а потом безжалостный мамин диагноз, и я прошу снова — ну пожалуйста, не надо, забери, забери что-нибудь другое, и спохватываюсь, потому что знаю теперь курс этого кровожадного обмена, только не Мишку, говорю я, что угодно, только не Мишку, и получаю двенадцать долгих лет, пустых, одиноких, зато мама живет; я плачу за все высокую цену — обязательно, иначе не получается, и когда наконец появляется Сережа — вдруг, из ниоткуда, я уже готова заплатить, и плачу, и цена эта опять высока. И поэтому теперь, сквозь бессмысленное Маринино бормотание, я могу думать только о том, что мы купили себе пропуск на то, чтобы успеть убежать — мама, с которой я не попрощалась, Ирина мертвая сестра, Наташины родители, только этого оказалось недостаточно, чтобы выкупить нас, этого не хватит, чтобы нас защитить, уже не хватило — и если не Леня, если не я, если не папа — кто тогда? Кто из нас?
Пять долгих часов до поворота я держала руль обеими руками и смотрела — вперед, на подпрыгивающий, раскачивающийся прицеп, в стороны, на плывущую мимо безучастную стену деревьев, и назад, на прихотливо змеящуюся, пустую дорогу, вспаханную нашими колесами; я не могла разговаривать и ничего уже не слышала, потому что каждая из этих четырехсот восьмидесяти минут до краев была заполнена ожиданием — что-то должно случиться, обязано — но что, и когда, и успею ли я угадать — и очень скоро Марина, перехватившая наконец мой взгляд в проклятом зеркальце, хотя я старалась не задеть ее этим взглядом, поперхнулась и проглотила все, что собиралась произнести, умолкнув на полуслове, шумно втянула носом воздух и дальше уже сидела молча, спрятав лицо в девочкином мохнатом капюшоне.
Во время нескольких коротких остановок, необходимых всем — детям, измученным монотонной дорогой, псу, изнывающему в тесной машине, и нам, взрослым, — чтобы не сойти с ума, Сережа подходил ко мне и говорил что-нибудь вроде «ну как ты?», — и в ответ я всякий раз задавала ему один и тот же вопрос — «еще долго?», несмотря на то что даже с закрытыми глазами, с внутренней стороны зажмуренных век продолжала видеть белесый кружок спидометра с тусклыми электронными циферками, трансформирующимися у меня в сознании в обратный отсчет — еще на тридцать километров ближе, еще на пятьдесят; в последний раз мы остановились уже после поворота — в темноте, и выйдя из машины, продолжая считать в уме — чтобы не сбиться, если после этих часов молчания и тревоги вообще еще возможно было сбиться и забыть о том, что мы почти на месте, что от озера нас отделяет каких-нибудь двадцать километров, и решая вечную дилемму — отойти подальше, не удаляться слишком — я сделала несколько лишних шагов вперед, куда не доставал уже свет наших фар, и, подняв глаза, замерла от ужаса, а затем развернулась и побежала назад.
— Сережа, — прошептала я, задыхаясь, и он удивленно обернулся ко мне. — Сережа, там дома, много домов… здесь нельзя оставаться, поехали скорее!
— Не может быть, — ответил он, недоверчиво нахмурившись, — здесь ничего нет, на десятки километров — вообще ничего. — И пошел, на ходу снимая ружье с плеча, и я, как завороженная, последовала за ним, пока оба мы снова не увидели это, и тогда он облегченно засмеялся:
— Ну какой же это дом, глупая, посмотри внимательно. Это уже лет сорок никакой не дом, — и тогда я присмотрелась, и увидела то, чего не заметила с самого начала: громадные черные бревна, рассохшиеся от старости и выскочившие из пазов, пустые оконные проемы без стекол, провалившиеся стропила — их было немного, этих домов, гораздо меньше, чем мне показалось вначале — может быть, четыре или пять, и все они были бесповоротно, необратимо разрушены, рассыпаны, словно монструозный деревянный конструктор, надоевший своему создателю; я протянула руку и прикоснулась к изъеденной временем бревенчатой кладке — и даже на ощупь она оказалась холодная и мертвая, не помнящая тепла.
— Это называется зона, — сказал Сережа за моей спиной, и я вздрогнула, — приграничная зона отчуждения. Не бойся, Анька. В этих краях полно таких деревень — когда двигали границу, всех отсюда выселили, здесь и тогда народу немного было, а теперь — давно уже — совсем никого. А дома — что, они еще лет сто простоят, только жить в них уже нельзя, конечно, сама посмотри, ни крыш, ни окон, все развалилось.
Ознакомительная версия.