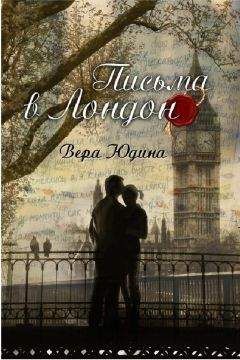– Мааам! – Машу настойчиво подергали за рукав. – Мааам!
– Что, Яночка?
– Посмотри, Мыш не шевелится!
Под нос Маше сунули крохотного белого зверька. Маша наклонилась, присматриваясь, вздохнула. «Три года… бедный старичок», – подумала она, погладив пальцем чуть смявшуюся шерстку, а вслух сказала:
– Отнеси его пока в клетку, я занята.
Вытесняя тесную кухонную духоту, в форточку бились запахи чуть смоченной ночным дождем пыли и увядающей травы, шелест тополиных листьев, обещание еще одного теплого, доброго дня. Вдохнув горячий гречневый пар из кастрюльки, Маша машинально пошуровала ложкой и присела на табуретку, рассеянно глядя в окно.
Они были одни в огромной коммуналке старого сталинского дома – муж и соседка Вера Ивановна на работе, неугомонный пенсионер Палыч ушел «за газетами» – наверняка уже сидел во дворе с такими же нездорово-румяными седыми толстяками, пил пиво и ожесточенно ругался за политику. Такой хороший день – они вдвоем с Яночкой, никто не мешает, можно валяться в обнимку с разноцветной книжкой в ленивых руках, и, может быть, наконец-то получится складывать буквы в слоги. А потом они бы пошли вдумчиво гулять по пахнущим ранней осенью дворам… Нормальный, расслабленный день нормальных людей. И надо же было Мышу сдохнуть именно сейчас. Маша поежилась, представляя тяжелый разговор. Можно оставить все до прихода мужа – уж Данил сможет объяснить все, не пугаясь и не пугая…
– Мааам! – крикнули из комнаты дрожащим голосом. Вздохнув, Маша выключила газ под кастрюлькой и пошла в комнату, мысленно репетируя необязательные, успокаивающие фразы.
Были жуткие, рвущие сердце рыдания. И жуткие вопросы, и ответы – еще страшнее. Был крошечный, икающий, сопливый, раздавленный горем комочек на руках, и Маша все укачивала дочку, пока рыдания не перешли в тихий плач. И было – «я что-нибудь придумаю, чтобы Мыш снова бегал, вот увидишь, мамочка, и ты никогда-никогда не умрешь, правда?», и Маша не спорила – да, конечно, правда, вырастешь и придумаешь, ты же у меня умничка, Яночка, ну, не плачь, доча, давай я тебе почитаю…
Теперь Яна сидела на полу, молча вперив взгляд в лежащего в клетке Мыша – взгляд тяжелый, неподвижный, пугающий. Маша отложила книжку, пытаясь задавить детский, глупый страх. «Яна, ты не слушаешь?» – тихо окликнула она, но девочка даже не обернулась. Она все смотрела на дохлого Мыша, и Маше это совсем, совсем не нравилось.
Точно так же когда-то смотрела Маша на тело своей бабушки, высокой, зычной, нестарой еще медноволосой дамы – смотрела на восковое лицо, иссеченное резкими тенями бумажных кружев, и пыталась понять – как же так? Вот она лежит – и не встанет никогда больше, не взглянет строго, не поведет за руку в парк… Маша все смотрела, и начинало казаться, что если она сейчас не отвернется – бабушка все-таки встанет… и это будет гораздо, гораздо хуже, неизвестно, почему, но хуже. Холодный страх ворочался в животе, глаза слезились – и бабушкино лицо начало плыть, покачиваться, дернулись брюзгливо брови, шевельнулись веки – и тогда Маша начала кричать.
Первой к истошно орущей, изо всех сил упирающейся ладошками в мертвое холодное лицо Маше подбежала тетя Люда, схватила железными руками под мышки, оторвала, зло, с досадой шлепнула по заду. Заткнись, кричала она, заткнись, маленькая дрянь! но Маша не слышала и все визжала – нет, бабушка, не оживай, пожалуйста, я больше не буду, пожалуйста, не оживай…
А вечером она лежала в своей кроватке и слушала, как тетя Люда наседает на маму. Резкий, металлический голос разносился по квартире, и некуда было спрятаться.
– У тебя очень странная дочка, Лена. То, как она себя сегодня вела… Это же просто неприлично! Ненормально! Она какая-то… с отклонениями, честное слово!
Тихий мамин голос возражал, вплетался слабой нитью в металлический скрежет, бессильно пытался защитить, смягчить. Маша свернулась калачиком, потянула подушку, пытаясь закопаться в душной ткани. Она знала, что такое – «с отклонениями». Это как мальчик Леша из соседнего подъезда: рот у него всегда открыт, текут слюни и сопли, и от него всегда плохо пахнет, а люди отворачиваются с брезгливой жалостью. И точно так же отворачиваются от его мамы, она, наверное, тоже «с отклонениями», хоть и не пускает слюней и очень добрая, вот только глаза у нее грустные-прегрустные. Маша скорчилась, давя рыдания. Но один всхлип прорвался, и на пороге сразу появилась мама.
Они долго сидели в темноте, и Маша все повторяла, что она не такая, не такая, как Леша, она хорошая, и мама говорила – да, да, ты хорошая, – я ведь нормальная, да? – конечно, ты самая обыкновенная девочка, очень-очень хорошая девочка… Мама была теплая и вкусно пахла, и наконец обессиленная Маша заснула.
Маша сжала зубы, пытаясь остановить воспоминания, не видеть снова то, что случилось потом: как она, трясущаяся и зареванная, в мокрых, остро пахнущих трусиках, раздавленная мучительным стыдом, стояла под взглядами – обвиняющим тети Люды и испуганным маминым – потому что ей приснилась бабушка, которая все-таки встала. Ее медные с проседью волосы стояли дыбом, она тянула к Маше руки и кричала – зачем ты это сделала? ненормальная! Ненормальная! – и Маша чувствовала, как ее глаза наливаются бессмысленной пустотой, а из уголка рта течет вязкая струйка слюны.
– Прекрати немедленно! – завизжала Маша.
Яночка вздрогнула и сжалась в комок, жалобно глядя снизу вверх.
– Мамочка, я придумала… – слабо улыбнулась она, но Маша, не слушая, схватила клетку, крикнула через плечо:
– Немедленно ложись спать! – и потащила клетку на кухню, задыхаясь от ужаса и омерзения.
Яночка сидела все в той же позе, стеклянно глядя на опустевший стол. Лоб покрылся капельками пота, на щеках – неровные жаркие пятна румянца. Маша испуганно бросилась за градусником, а потом звонить, упрашивать, да, я понимаю, что надо заранее, ну пожалуйста, ведь тридцать девять уже, девочка только что перенесла потрясение, пожалуйста – Маша уже плакала, и на том конце провода смягчились, посоветовали напоить слабым чаем с лимоном, успокоиться и ждать.
Уложив Яну в постель, Маша старательно подоткнула одеяло и отправилась на кухню. Включила чайник и замерла перед окном, зябко обхватив себя руками.
За спиной зашуршало.
Обмирая, Маша оглянулась. По клетке метался Мыш, сердито пищал, рылся в рваной газетной бумаге. На его белом боку отчетливо виднелась влажная проплешина, облепленная мелкой мусорной дрянью. Сдавленно взвизгнув, Маша метнулась в комнату.
Она мерно раскачивалась в кресле, мучительно хмурясь. Прятаться дальше было глупо. Можно просидеть здесь до прихода Дани… И потом пытаться объяснить ему, что, собственно, произошло. «А ничего такого и не случилось», – прошептала Маша и воровато оглянулась на кроватку. Яна спала, свесив руку, – рыжие тонкие волосы чуть влажны, рот приоткрыт. Маша осторожно повернула дверную ручку. Дочка, потревоженная скрипом, заворочалась, перевернулась на бок и снова мирно засопела, чуть улыбаясь во сне.