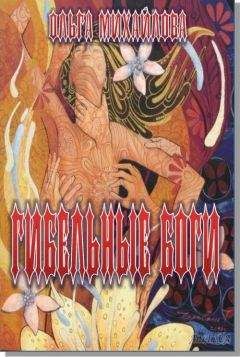Уже стемнело, луна нависала над Римом огромным серебристым цехином, Винченцо проследил взглядом абрис темных строений галереи Спада, и тут, опустив глаза к мосту, замер. В лунном свете высокий парапет был странно искривлен черной тенью. Джустиниани замедлил шаги и остановился. Здесь явно кого-то ждали.
Оказалось — его. Навстречу выскочили двое бандитов и ринулись к нему. Будь их нападение внезапным, ему бы несдобровать, но теперь Винченцо проворно уклонился от первого браво, одновременно резким движением отпихнув его к перилам моста, и напрягся в ожидании второго. Джустиниани заметил в его руке нож, но тут оказалось, что напарник негодяя не сумел удержать равновесия и, несколько секунд балансируя руками и крича, все же свалился в воду. Крик его отвлек нападавшего. Воспользовавшись минутой замешательства, Джустиниани выбил нож из его руки и бросился на головореза, но тот с ловкостью белки увернулся и кинулся бежать к палаццо Фарнезе.
Винченцо подобрал нож и, подойдя к перилам, перегнулся за них. Воды Тибра бесстрастно струились внизу, отражая лунную рябь и черное небо. Куда пропал браво? Кто подослал мерзавцев? Зачем? Винченцо пожал плечами, в свете фонаря с досадой рассмотрев порванный рукав сюртука, последний из гардероба Джанпаоло, что налезал на него, потом — нож со сверкающим лезвием и тяжелой рукоятью, на которой выделялись буквы, неожиданно совпавшие с его собственными инициалами: «G. V.» Ну, что же…
Поразмыслив дорогой, он пришел к выводу, что его просто с кем-то спутали, однако, дал себе слово без оружия больше из дома не выходить. Он знал ночной город, мало чего боялся, но дурные неожиданности предпочитал встречать с пистолетом.
Впрочем, очарованный красотой и свежестью весенней ночи, он быстро забыл этот нелепый эпизод.
Джустиниани уже был за несколько кварталов от дома, когда услышал свое имя: его окликал граф Массерано. Судя по костюму, его сиятельство возвращался из оперы. Он был один, без супруги.
— Дорогой Винченцо, счастлив встретить вас! — Вирджилио приказал кучеру остановиться, вылез из кареты и тут обратил внимание на испорченный сюртук Джустиниани, — что это с вами? — Джустиниани отметил, что у Массерано усталый вид, словно после ночи бессонницы.
— Шантрапа разгулялась, — пожав плечами, ответил он, ибо не хотел ничего рассказывать Вирджилио, но тот уже тянул его к себе, благо они были в двух шагах от подъезда его дома.
— Вам нужно выпить коньяка, Джустиниани, вы так бледны…
Винченцо не хотел никуда заходить: бледным он был всегда, сколько себя помнил, разве что лунный свет мог немного усугубить белизну кожи, коньяка же вовсе не хотел, скорее, предпочел бы что-нибудь прохладительное. Однако обижать графа тоже не хотел, и они вошли в гостиную. Пока Вирджилио звонил слугам и распоряжался принести вино и коньяк, Джустиниани подошёл к книжным полкам и тут заметил на столике раскрытый том Шекспира. Несколько строк были отчеркнуты карандашом.
«Жизнь — это только лишь комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый, это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти,
Нет лишь смысла»,
— прочел Винченцо.
— Любите Шекспира? — спросил он у Массерано. Джустиниани плохо знал графа, в юности тот казался ему стариком, они никогда не сталкивались близко, однако, увидев его на похоронах, отметил, что Вирджилио сильно сдал за последние семь лет.
Граф поморщился.
— Да нет, просто… — он смутился. — Просто задумался, когда-то в юности читал… Но… грустно. Для чего дается человеку мысль, когда она всюду натыкается на смерть? Чтобы понять, что могила ему отец, а черви — братья? Глуп человек, когда может веровать в какой-то смысл жизни. Сейчас д урачки говорят о прогрессе. Идиоты. Там, где есть смерть, никакого прогресса нет. А если и есть, то это только проклятый прогресс в ужасной мельнице смерти. Человек — маленький светлячок в непроглядной ночи, гонимый непонятным беспокойством, он мчится из мрака в мрак, но вершина ужаса в том, что величайший мрак есть наименьший, а дальше… бесконечность мрака. Этот, — Массерано ткнул в том Шекспира, — это понимал.
Джустиниани удивился. Он видел, что граф нездоров и чем-то расстроен, но его горестные пассажи были чрезмерно унылы. Винченцо понял, что Массерано нетрезв — вокруг него клубились коньячные пары.
— Все пути человеческие ведут к гробу, в нем и завершаются, — вяло продолжил Массерано, — немощь и банкротство. Как огромный паук, смерть сплетает сети и ловит людей, как беспомощных мух. Куда бежать… впрочем, что это я? Вы еще молоды… Вы меня не поймете…
— Ну, а Бог, помилуйте? В Боге человек бессмертен.
Массерано устало махнул рукой и вздохнул.
— Вы молоды, — грустно повторил он и тихо пробормотал, — а мне шестьдесят пять. Чего бы я ни отдал за молодость, за мои тридцать? Вот когда начинаешь постигать… Но вам будет трудно понять меня.
Джустиниани был умен, но понял только, что перед ним человек несчастный и весьма грешный. Сам он носил в себе ощущение неиссякаемой вечности. Он задумался над смыслом жизни еще в юности, и считал, что сам поиск смысла жизни, который превышал бы смысл существования тли, моментально пробуждает спящее в душе ощущение бесконечности. В этом поиске — продление, расширение, углубление себя. Но этот человек не знал вечности, он падал в провалы своего духа и не находил выхода. Джустиниани знал, как много трещин в уме человеческом, как много расселин в сознании, как много пропастей в сердце. Откуда они? От греха. Ибо грех — это подлинное землетрясение, переворачивающее и душу, и ум, и сердце, образующие в них каменистые ущелья и бездонные провалы. Чем больше греха — тем больше болезненной раздробленности духа, тем ничтожней и слабей человек, тем безнадежнее его скитания по своим внутренним бездонным развалинам, пока он не заблудится в них окончательно…
Да, глупо было говорить этому человеку о Боге. Грех потому и грех, что его природа вытесняет все божье, все, что делает человека непреходящим и бессмертным, а обезбоживание человека — это лишение его смысла существования…
— Человек бессмертен, смерть — всего лишь роды. Из утробы — в мир, из мира — в вечность, — тихо, но уверенно сказал Винченцо, сказал даже не Массерано, скорее — себе, ибо любил эту мысль. — Три стадии бытия, три ступени полноты…
Джустиниани задумчиво пригубил коньяк, отвернулся, стараясь не смотреть на Массерано, и тут заметил в боковой нише, скрытой от глаз посетителей, большую картину. Взяв подсвечник, подошел и чуть отодвинул портьеру. Господи Иисусе…