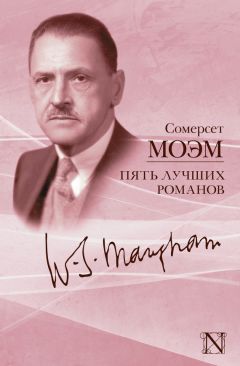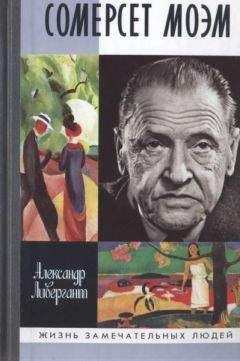Я не знала, что ответить ему, Рут. Но я знала одно: хуже, чем было, уже не будет. Потому что хуже просто не бывает. Поэтому я продолжала настаивать и держалась достаточно жестко, пока Брендон не понял, что малышка не отвернется и не исчезнет из кадра до того знаменательного момента, когда ее позовут полюбоваться на мертвых злодеев. В общем, он показал мне те фотографии. Дольше всего я смотрела на снимок с маркировкой «ПОЛИЦИЯ ШТАТА № 217» в правом верхнем углу. Впечатление было такое, как будто мне показали видеозапись моего самого страшного из кошмаров. На снимке была большая квадратная плетеная корзина – открытая, так чтобы фотографу было удобнее заснять содержимое. Внутри была груда костей, смешанных с драгоценностями. Дешевенькая бижутерия и по-настоящему ценные вещи. Кое-что было украдено из летних домиков, а кое-что – явно снято с окоченевших трупов.
Я смотрела на эту фотографию – вызывающе откровенную, как и все снимки вещественных доказательств, которые делаются полицией, – и у меня было такое чувство, как будто я вновь оказалась на озере, в нашем летнем домике. Именно оказалась, а не вспомнила, понимаешь? Вот она я, лежу на кровати, прикованная наручниками и беспомощная, и смотрю на тени, пляшущие на его бледном лице с губами, растянутыми в улыбке, и слышу свой собственный голос, как я ему говорю, что мне страшно. А потом он нагибается к своей коробке, не сводя с меня лихорадочного взгляда, и я вижу, как он – оно — запускает туда свою скрюченную бесформенную руку и медленно перемешивает кости и драгоценности. И я слышу, как они тихонько клацают друг о друга – как кастаньеты, заляпанные грязью.
И знаешь, что меня «убивает» больше всего? Что тогда я подумала, будто это отец – мой хороший и добрый папочка — восстал из мертвых и пришел ко мне, чтобы завершить начатое в день затмения. «Давай, – сказала я ему. – Делай, что хочешь, но только пообещай, что потом ты меня освободишь».
И знаешь что, Рут? Если бы я тогда знала, кто это на самом деле, я бы, наверное, сказала ему то же самое. Я знаю, что я бы сказала ему то же самое. Ты понимаешь? Я бы позволила ему вставить в меня свой член – который побывал в глотках стольких полуразложившихся мертвецов, – если бы он пообещал, что я не умру здесь от судорог и конвульсий. Если бы он пообещал меня ОСВОБОДИТЬ.
Джесси на секунду остановилась, пытаясь слегка успокоиться. Ее дыхание сбилось, так что она едва не задохнулась. Она уставилась на слова на экране – на это немыслимое признание, – и ей захотелось стереть их, убрать. И вовсе не потому, что ей было стыдно, что Рут их прочтет. Да, конечно, ей было стыдно. Но дело не в этом. Она не хотела сама задумываться об этом, и у нее было стойкое ощущение, что если она не сотрет эти слова прямо сейчас, ей придется задуматься. Ой как придется. Слова имеют над нами какую-то непонятную власть… и часто бывает, что твои же слова начинают тобой управлять.
Да, но только в том случае, если ты не умеешь ими управлять, – подумала Джесси, выделила последнее предложение и положила указательный палец правой руки в черной перчатке на клавишу «Delete»[38]. Потом на секунду задумалась и убрала руку. Ведь это же правда, или нет?
– Правда, – произнесла она вслух тем же приглушенным голосом, которым разговаривала со своими голосами, когда лежала прикованная наручниками к кровати в летнем домике на озере. Только теперь она обращалась не к женушке и не к Рут. Теперь она обращалась к себе. Наверное, это можно считать прогрессом. – Да, это правда. Все правильно.
Только правда и ничего, кроме правды. И да поможет ей Бог. Она не нажмет на клавишу «Delete» и не сотрет эту правду, какой бы страшной и мерзкой она ни была. Правда есть правда. Раз слова написались, пусть они остаются. Тем более что Джесси еще не знала, будет она отправлять письмо или нет (она никак не могла решить, насколько это удобно – обременять человека, которого ты не видела столько лет, таким грузом безумия и боли). Она может и не отправлять письмо, но написанное пусть остается как есть. И лучше всего ей закончить письмо поскорее, пока у нее еще есть силы и пока не иссякла решимость.
Джесси подалась вперед и опять начала печатать.
Брендон сказал:
– Есть одна вещь, о которой ты должна помнить, Джесси, и которую надо принять. Прямых доказательств нет. Да, я знаю… твои кольца так и не нашли. Но насчет них ты, возможно, была права. Может быть, их прикарманил кто-то из полицейских.
– А как насчет фотографии № 217? – спросила я. – Насчет той плетеной коробки?
Он пожал плечами, и на меня вдруг снизошло озарение, которое поэты называют «божественным откровением». Я поняла, что Брендон отчаянно цеплялся за мысль, что эта коробка была всего-навсего совпадением. Это было непросто: уговорить себя. Но это было значительно проще, чем принять все остальное – и особенно смириться с мыслью, что тварь типа Жобера может хоть как-то затрагивать жизнь человека, которого ты знаешь и который тебе небезразличен. То, что я прочитала в тот день в глазах Брендона Майлерона, было предельно просто: он и дальше будет игнорировать целую кучу косвенных доказательств, мотивируя это отсутствием прямых улик. Ему удобнее считать, что все это плод моего воспаленного воображения, ухватившегося за дело Жобера, чтобы объяснить галлюцинации, которые преследовали меня, пока я лежала прикованная наручниками к кровати.
Вслед за первым озарением пришло и второе: ведь и я тоже могу так сделать. Могу убедить себя, что я ошиблась… но если я это сделаю, тогда моя жизнь будет сломана. Снова вернутся голоса – и не только твой, Малыша или Норы Кэллиган. Это будут голоса всех, кого я знала: мамы, брата, сестры, моих школьных друзей, случайных людей, с которыми я болтала ни о чем, чтобы провести время в очереди к врачу, и Бог знает кого еще. И больше всего среди них будет тех пугающих голосов НЛО.
А я этого просто не вынесу, Рут. Потому что за те два месяца после того, как я пережила самое страшное потрясение в жизни, я вспомнила много чего такого, что подавляла в себе столько лет. Наверное, самые главные воспоминания всплыли в период между первой и второй операциями на руку, когда меня почти все время держали «на лекарствах» (это такой врачебный жаргон; означает, что тебя накачивают всякими успокоительными до состояния полного ступора). И вот что я вспомнила: в течение примерно двух лет – между днем солнечного затмения и днем рождения Вилла, когда брат пощупал меня при всех, когда мы играли в крокет, – я почти постоянно слышала голоса. А потом они прекратились. Может быть, то, что сделал со мной Вилл, сработало как лечебное средство. Типа шоковой терапии. Кстати, вполне может быть. Ведь наши первобытные предки придумали же жарить и варить еду на огне после того, как поели мясо животных, погибших в лесных пожарах. Но даже если в тот день и случилась такая вот «непреднамеренная» терапия, мне кажется, это было связано не с тем, что Вилл потрогал меня за задницу, а с тем, что сделала я: развернулась и въехала брату по морде… впрочем, сейчас это уже не важно. Сейчас важно другое: после солнечного затмения я почти два года слушала хор голосов, которые разговаривали у меня в голове и оценивали каждое мое слово и каждый поступок. Среди них были добрые голоса, которые были всегда за меня и которые очень меня поддерживали, но в основном это были голоса людей, которые вечно всего боялись, которые вечно смущались или робели, которые были искренне убеждены, что Джесси – никчемное и ничтожное существо, и все то плохое, что с ней происходит, она заслужила – как говорится, так ей и надо, – а вот за хорошее ей надо платить вдвойне, потому как она его не заслужила, хорошего. Два года я слушала эти голоса, Рут, а когда они прекратились, я про них забыла. Причем забывала не постепенно, как это обычно бывает. Я забыла их сразу и напрочь. Как отрубило.