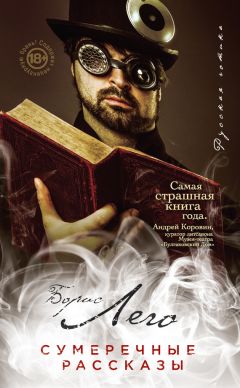– Это для профилактики, – сказала она. – Надо креститься на огоньки. Ах, беззаконие, ах, сон разума…
Что на это ответить, Сергий не знал. Не знает и до сих пор.
И была ночь, и было утро.
– Езжай домой, Сергий, – сказала она утром, – а вечером возвращайся. Мне надо побыть одной, а то я тебя возненавижу.
Так и началось. В течение двух недель Сергий каждое утро в тяжёлом состоянии ехал домой, под вечер преодолевал похмелье и, как зачарованный, возвращался в Северное Дегунино.
Однажды она делала Сергию массаж, сидя на нём верхом, и он спросил, есть ли у неё родители.
Она ответила так:
– В детстве мы спрашиваем, где мы и где наши игрушки. А когда взрослеем, то спрашиваем, кто мы и где наши вещи… Так вот, Сергий, когда-то у меня были игрушки в городе Воткинске.
– Где это? – спросил он.
– Это под городом Ижевском.
Сергий хотел спросить, под чем находится Ижевск, но промолчал, потому что он, судя по всему, был под тем же безответным небом, под которым находился благословенный район Северное Дегунино.
На другой день утром она выпила две чашки крепкого кофе, зевнула и томно сказала:
– Друг мой, а не пора ли нам откушать святого причастия?
Сергий промолчал, и она не стала развивать эту тему.
А ещё она однажды предложила:
– Сергий, ущипни меня за зад!
– Зачем? – спросил он.
– Чтобы ты увидел, что ничего не изменится…
Сергий уже протянул руку – ущипнуть её, но сдержался, потому, вероятно, что ему не хотелось разочаровываться в возможности перемен.
Во время их последней встречи, когда Сергий кончил третий раз подряд, она, лёжа под ним и глядя куда-то в сторону, вдруг тихо сказала:
– О, сучья смерть!
Что на это ответить, он тоже не знал. Не знает и до сих пор.
Как-то раз Сергий по обыкновению позвонил ей вечером, перед выездом в Северное Дегунино, и она ответила, что приезжать ему не надо. Она тяжело дышала в трубку, будто прервала утомительную физическую работу, чтобы поговорить с ним. Её голос был так далёк, так отрешён, будто Северное Дегунино стало ночами отражать свет солнца, как Луна, будто оно превратилось в другую планету, временами видимую, но недоступную.
Сергий заявил, что всё равно приедет сейчас же, что готов дальше делиться с ней впечатлениями от жизни. Но она была непреклонна.
Напоследок она сказала, что ей пора начинать молиться, работать и воздерживаться, а заключила прощальный монолог словами: «девки меня убьют». Ещё несколько секунд Сергий слушал её тяжёлое дыхание, затем связь прервалась. И в тот момент Сергий наконец понял, что она – православная лесбиянка.
Как тосковал он по ней, когда засыпал один, когда сквозь замкнутость суток проглядывается финал всего сущего, он злился, не зная, как вновь увидеть свою пассию, он даже рычал, вспоминая её чёрное платье с белыми кружевными рукавами, её карманную рюмку, он свирепел, представляя, как она где-то молится и воздерживается – с кем-то другим.
Один парень сказал ему, что недавно видел её, бледную, почти прозрачную, на Тверском бульваре в компании страшных мужиковатых баб, и добавил, что так измотала её, наверно, любовь.
Другой парень сказал Сергию, что видел её – запостившуюся до тщедушия – поющей на клиросе в храме Иоанна Богослова на том же бульваре. Весь август Сергий слонялся вечерами по Тверскому бульвару и заходил в этот храм, надеясь встретить её, но тщетно. Номер её был заблокирован, а с квартиры в Северном Дегунине она куда-то съехала.
Вначале было бледное вытянутое пятно. Затем сознание быстро сфокусировалось, и Прохор понял, что лежит на диване в московской квартире и смотрит на свою ступню, высунувшуюся из-под одеяла, что сейчас около одиннадцати утра, спешить никуда не надо, как обычно за последние годы, можно дремать, а к полудню проверить почту и включить телефон.
Но в этот раз что-то пошло не так – левая ступня вдруг показалась ему беззащитной, будто превратилась в отдельное существо. Прохор пошевелил пальцами ноги, и ему стало жаль ступню: так трогательно напряглись жилы, так сиротливо торчали на фалангах волоски. Ощущение болезненной неразрешимости возросло, и Прохор подумал, что теперь вряд ли кто-то полюбит его такого – человека с обособленной частью тела.
Прохор приподнялся на локте и, рассеянно глядя на ногу, понял: во всём мире нет человека, способного познать его левую ступню. Не в силах больше смотреть на неё, Прохор прикрыл ногу одеялом и опустил голову на подушку.
Ступня посылала сигналы, которые требовали срочной расшифровки. «Возможно, нужна помощь специалиста, – подумал Прохор. – Но кто готов поверить моей ступне? Кто готов полюбить её отдельно от тела?»
Прохор зевнул и для начала попробовал определить: что любит он сам? Любит, когда прекрасно функционирует организм, вырабатывая необходимые вещества для получения удовольствия от всего. Деньги, независимость – это вторичные, искусственные понятия, но тоже любит, можно сказать. Жарить шлюх. Бесплатных, которые по любви. А ещё ночью на своей кухне покурить в одиночестве травки и съесть йогуртовый торт. Спортивные автомобили восьмидесятых. А ещё хентай, Россию и котиков.
Некоторое время Прохор хищно прислушивался к ступне и ждал от неё новых импульсов.
Затем он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы насытить мозг кислородом. Хотелось открыть окно и проветрить комнату, но для этого нужно было встать, а Прохор твёрдо решил, что не встанет, пока не осмыслит эффект ступни.
Он стал думать о природе счастья, надеясь через это понять, как сладить со ступнёй: «Счастье – получать вещества: витамины, микроэлементы, жиры. Здоровый организм с их помощью вырабатывает гормоны, и начинается счастье… Да, серотонин, эндорфин, вазопрессин делают всех равными… А ещё нужны пробежки на свежем воздухе».
Лёжа на правом боку, Прохор вытянул правую ногу, а левую поджал к животу, обхватив колено левой ладонью; правую руку, просунув под подушку, свесил с торца дивана и вновь сосредоточился на ступне, накрытой одеялом. Стало тревожно от того, что он её не видит, как будто, когда увидит, не переживет её смысла, и его озарила догадка: ведь это мужская ступня!