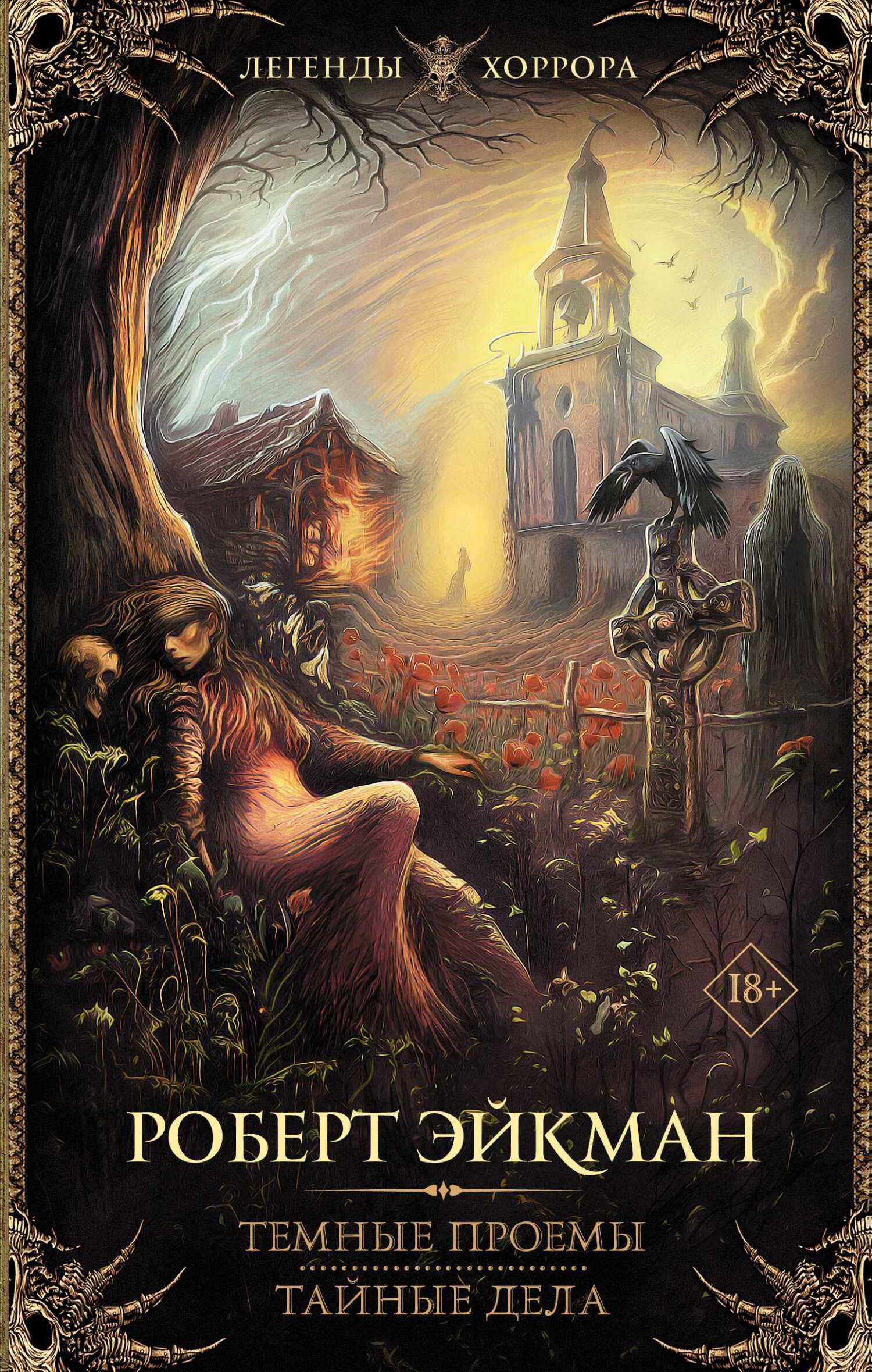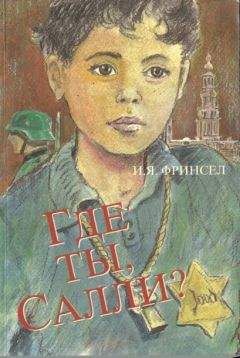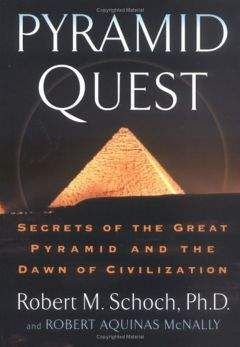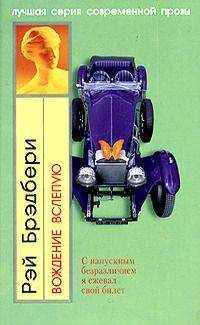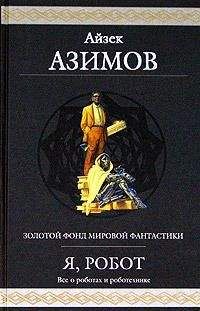поблизости, казалось, никого не было, он поднял драп за уголок – покоричневевший от времени и пыльный, как и во многих других соборах Бельгии, – и заглянул под него. Ему едва ли удалось многое разобрать – тем более, достаточно света в часовню не проникало.
– Погодите, я вам помогу, – произнес чей-то явно иностранный голос за спиной Джона. – Я ее полностью сниму, и тогда вам будет на что посмотреть, вы уж поверьте. – Это снова оказался молодой человек, но на сей раз – рыжеволосый и бодро выглядящий юноша в сине-зеленой ветровке. Протянув одну руку, он сдернул драп; протянув другую – включил под потолком часовни тусклый электрический светильник.
– Благодарю, – только и вымолвил Трент.
– Теперь смотрите. Смотрите внимательно.
Трент посмотрел. Зрелище было ужасающим.
– Бог ты мой.
Больше ему смотреть не хотелось.
– В любом случае, большое вам спасибо, – добавил он, извиняясь за свое отвращение.
– Вот ведь паноптикум, правда? Все эти святые былых времен, – прокомментировал молодой европеец, расправляя потрепанную тряпку на прежнем месте.
– Полагаю, на небесах им воздалось, – предположил Трент.
– Да уж точно, – бросил юноша с горячностью, которую Трент не смог должным образом истолковать. Он потянул за цепочку и выключил светильник. – Ну что ж, еще увидимся.
– Надеюсь, – откликнулся Джон Трент с улыбкой. Молодой человек больше ничего не сказал и, сунув руки в карманы, удалился к южному входу, насвистывая бодрый мотивчик. Сам Трент никогда не посмел бы так громко свистеть в чужой церкви.
Общепринято самым значительным произведением искусства из хранимых в соборе Святого Бавона являлся Гентский алтарь Поклонения Агнцу начатый Губертом ван Эйком, величайшим из всех, и завершенный его братом Яном, вторым по искусству. В настоящее время он размещался в небольшой боковой часовне у южного прохода к алтарю – за занавесями, куда вход иностранцам почти всегда предоставлялся за плату.
Когда Трент добрался до часовни, он увидел табличку с надписью о плате у прохода, но, не услышав ни звука – как и везде в соборе, – предположил, что внутри никого. Чуть уязвленный просьбой о подаянии, как это обычно бывает с протестантами, он взял на себя инициативу и осторожно отодвинул темно-красную занавеску.
Часовня, пускай и пребывала в полной тишине, вовсе не пустовала. Напротив, тесное помещение оказалось до того забитым, что Трент не смог бы войти внутрь, даже если бы осмелился. Толпа четко делилась на два типа: впереди выстроились в несколько коротких рядов мужчины в черных одеждах – коленопреклоненные, склонившие головы и, как Трент предположил, молчаливо благоговеющие, – а позади, сгрудившись и того теснее, собралась толпа причудливых бельгийских старух. Эти женщины здесь были такими же бесполыми, некрасивыми, одутловатыми и убийственно серьезными с виду, как и везде в Бельгии – что в священных, что в светских местах; они не стояли на коленях, но выглядели так, будто что-то здесь погрузило их в транс. Неподвижность и молчание – вот что настораживало больше всего. Тренту случалось уже видеть подобные собрания, но они никогда не отличались молчаливостью – скорее уж наоборот: сбивчивые молитвы и плаксивые выкрики «славься, славься, Пресвятой Боже» можно было слышать далеко на подступах. А в этом сборище никто будто и не заметил пришествия нового посетителя – что тоже, в общем-то, было чем-то необычным для столь любопытного народа, как бельгийцы.
И в этой гротескной обстановке знаменитый образ Поклонения казался еще более не от мира сего – загадочный сонм ангелов, странно яркие цвета, аллегорические фигуры. Что-то в самой композиции казалось непомерно экзотическим, как восточный гобелен, и несравнимо более древним, чем Адам и Ева, видневшиеся с краю. Некоторые лица на разукрашенном алтаре, по наблюдению Трента, обладали слишком уж подозрительно схожими чертами с лицами окружающих реликвию реальных восторженных поклонников.
Тихо задернув занавеску, он, чрезвычайно возбужденный, продолжил свой путь.
Двумя часовнями дальше он наткнулся на «Прославление Девы Марии» Лимейкера [98]. Мальчишка-хорист в красной рясе начищал до блеска лампаду неподалеку. Черные волосы юного послушника казались безжизненными и ломкими, взгляд – больным и напряженным.
– Onze lieve Vrouw [99], – объяснил изображение мальчик из хора.
– Да, – откликнулся Трент, – вижу, большое спасибо. – Ему пришло в голову, что для хориста чистка церковной утвари – едва ли подобающее занятие. Возможно, впрочем, этот парнишка был вовсе не певчим, а просто церковным служкой. Снова на задворках сознания замаячила мысль, что в любой момент его могут попросить покинуть здание; рассеянным жестом Джон поднес к глазам часы – и с удивлением обнаружил, что те встали, все так же показывая 11:28.
Трент потряс часами у себя над ухом, но они, само собой, от этого не завелись. Парень-чистильщик перешел от чистки лампады к распятию, нежно провел тряпицей по пробитым гвоздями ступням Христа. У него на тощем запястье тоже оказались часы на узком черном ремешке. Трент жестом попросил служку подсказать время, но мальчишка покачал головой с какой-то комичной, не по возрасту, суровостью. Непонятно было, что он этим хотел сказать – то ли его часы тоже оказались сломаны, то ли он решил, что иностранец хочет их у него отнять. Затем, в считанные секунды, до Трента дошло, что мальчишка не суров, а до того исполнен религиозного чувства – будто его уже посвятили в сан, – что, вероятно, из принципа отказался сообщить ему время. Хранит молчание ради блага испрашивающего, разве не многие священнослужители так делают? Трент быстро вышел из часовни, удостоив шедевр Лимейкера лишь самого поверхностного взгляда.
Сколько времени у него осталось?
Дальше по курсу находился богатый алтарь Рубенса, изображающий самого́ святого Бавона, раздающего все свое имущество бедным.
А еще дальше – ужасающая «Мученическая смерть святого Ливина» Герарда Зегерса.
Миновав еще одну боковую часовню, Трент добрался до места пересечения северного трансепта и матронея [100]. Последний был огорожен массивной и непроницаемой оградой из черного чугуна – наподобие клетки для императорских львов. Путеводитель особо отмечал четыре захоронения бывших епископов, которые должны были находиться за той оградой, но Трент, заглянув через кованную решетку, едва различал даже очертания. Он переходил от одного конца лестницы, ведущей к матронею, к другому, ища ступень, от которой падало бы чуть побольше света; безрезультатно. В конце концов он нашел засов на воротах. Те казались запертыми, но на деле – открылись, как только Трент налег на них бо́льшим весом. На цыпочках он вошел в матроней, думая: все-таки стоило затворить за собой. Едва ли он был уверен в том, что гробницы на территории храма удастся рассмотреть подробно – и все же они предстали перед ним во всей красе,