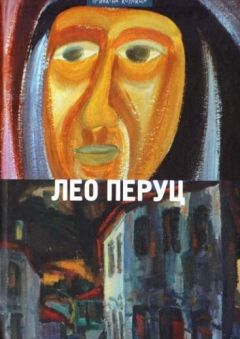— Нет пороха, — растерянно пробормотал фон Дубич. Эглофштейн серьезно кивнул головой. Мы все почувствовали себя беспомощными, тем более что почти никто из нас не считал до сих пор положение столь отчаянным.
— Поэтому чрезвычайно важно, — вновь начал полковник, — доставить сообщение о положении гарнизона в руки генералу д'Ильеру. Вот письмо. И я созвал вас всех потому, что один из вас должен взять на себя задачу пронести его через линии герильясов…
И опять подавленное молчание воцарилось в комнате. Только Салиньяк встрепенулся, шагнул вперед и остановился, как бы выжидая еще чего-то.
Кастель-Боркенштейн тихо сказал:
— Это — невозможно…
— Это — возможно! — резко вскричал полковник. — Для того, кто имеет достаточно мужества и ловкости, свободно говорит по-испански и сойдет, переодевшись, за батрака, за погонщика мулов…
Салиньяк молча повернулся и отошел в свой угол.
— Да, и будет повешен, если угодит в лапы герильясам! — заметил гессенский первый лейтенант[80] фон Фробен, коротко рассмеявшись и вытерев мокрый лоб.
— Уж это — верно, — добавил фон Дубич, пыхтя от волнения. — Сегодня утром, когда я обходил посты после боя, один с той стороны кричал мне: знаю ли я, что конопля в прошлом году хорошо уродилась, и веревки, чтобы всех нас перевешать, обойдутся недорого!
— Правильно, — спокойно отозвался полковник. — Герильясы вешают пленных, это не новость. И все же необходимо отважиться на попытку. Того из вас, кто вызовется на это отважное дело, я представлю…
Среди нас вдруг прокатился резкий смех. Испуганно оглянувшись, я увидел Гюнтера, который слез со своей койки и, стоя в дверях, — смеялся.
Красное шерстяное одеяло он держал в одной руке, а другой цеплялся за ручку двери. Нас он явно не видел. Мерцающие глаза его были устремлены вдаль. Воспаленная кровь затуманила сознание раненого, он был дома — у отца и матери, только что вернувшись на почтовой карете из Испании. Он уронил одеяло, взмахнул рукой и со смехом закричал:
— Вот я! Холля! Кто-нибудь слышит? Отворяйте! Вы, кто там есть во дворе? Я опять дома! Скорее! Вперед! Колите свинью, гуся, тащите вина, музыкантов зовите! Аллегро! Аллегро!
Фельдшер схватил его за руки и уговаривал лечь опять в постель. Но Гюнтер, узнав фельдшера, несмотря на лихорадочный жар, отталкивал его из всех сил:
— Отойди, лекарь, оставь меня в покое. Ты только и умеешь, что брить да кровь из жил пускать, да и то плохо…
Фельдшер даже выронил свою трубку, набитую табаком, растерянно оглянулся на полковника и сказал — извиняясь за себя и за Гюнтера:
— Он бредит в жару… Это видно!
— Ну, я не очень уверен, — раздраженный внезапной помехой, сердито обронил полковник. — Заберите его отсюда!
— Ох, я и впрямь болен, — вздохнул Гюнтер, глядя куда-то поверх голов. — Есть горячее и пить холодное — этого легкие не выдержат, говорила еще жена кистера[81].
— Этот, верно, уже не увидит кошку своей матери… — тихо и хмуро заметил фон Дубич Кастель-Боркенштейну.
Наконец фельдшеру удалось вывести бредящего лейтенанта и уложить его на койку. Он вообще-то был искушенный медик, но у нас его никто не ценил по достоинству. Несколько лет тому назад он даже напечатал книгу о сущности и природе меланхолии.
Полковник поглядел на часы и вновь обратился к офицерам:
— Время торопит. Всякое промедление может стать гибельным. О том из вас, кто вызовется на это задание, я сообщу прямо лично императору, и соответствующее представление ему обеспечено…
Тишина. Слышалось дыхание Гюнтера за стеной. Брокендорф стоял в нерешительности. Донон качал головой, Кастель-Боркенштейн мрачно смотрел на подстреленную ногу, Дубич пытался укрыться от глаз полковника за широкой спиной Брокендорфа.
И вдруг кто-то раздвинул их. Перед полковником встал Салиньяк.
— Позвольте ехать мне, господин полковник! — выдохнул он и оглянулся, боясь, как бы кто другой не опередил его. Грозовой свет отваги и воодушевления трепетал на его желто-восковом лице, крест Почетного легиона сверкал на его груди в свете свечей. И когда он стоял, наклонившись вперед, держа в руках невидимые поводья, мне казалось, что он уже в седле и мчится галопом сквозь линии герильясов.
Полковник долго смотрел на него.
— Салиньяк, вы — истинный храбрец. Я благодарю вас и доложу о вас императору. Идите сейчас домой и подберите себе одежду, какая вам лучше подойдет. Лейтенант Йохберг сопроводит вас до неприятельских форпостов. Идите, я жду вас через четверть часа в канцелярии, там передам все инструкции для вас.
Он отпустил и остальных. Лейтенант фон Дубич выскочил первым, радуясь, что опасную задачу взял на себя другой. Эглофштейн с графом Кастель-Боркенштейном еще задержались у двери — каждый хотел пропустить другого вперед.
— Барон! — легким движением руки пригласил гессенский капитан.
— Граф! — с поклоном отстранился Эглофштейн.
Кто-то, уходя, задул свечи. В темноте я продолжал прижиматься к печке. Тепло не отпускало меня, огонь досушивал мою промокшую одежду. Снаружи я различил голос полковника, отрывистый и недовольный.
— Опять вы, Брокендорф? Что вы еще хотите, черт побери?
— Господин полковник, я — из-за квартир… — донесся просительный голос Брокендорфа.
— Брокендорф, вы мне уже надоели! Я вам сказал — других нет!
— Но, господин полковник, я знаю квартиру, где хватит места для всей моей роты!
— А, ну и занимайте ее! Что вы клянчите у меня, если сами такую знаете?
— Да, но испанцы… — замялся Брокендорф.
— Испанцы? Не заботьтесь об испанцах! Гоните их вон, они могут устроиться, где захотят!
— Отлично! Я спешу, я бегу, — возликовал Брокендорф, и слышно было, как он стремительно сбежал по лесенке вниз, и уже с улицы раздались его восторженные крики:
— Отличный же человек наш командир! Я всегда говорил — у него сердце открыто для своих людей! Собачий сын, кто его не уважает!
А полковник тяжеловесно зашагал, удаляясь во внутренние комнаты. Стало тихо, только в печке потрескивал огонь.
Но едва мои глаза привыкли к темноте, как я заметил, что не один в комнате.
Посреди ее все еще стоял Салиньяк.
С тех пор прошло много лет. Когда я оглядываюсь на те события, я вижу: многие вещи, некогда ясно и остро представшие моим глазам, потонули в неверном свете времени. И мне самому иногда хочется поверить, будто тот странный диалог просто приснился мне, и Салиньяк вовсе не говорил с кем-то, кого я не видел. Но нет — я не спал, и только через некоторое время, когда Эглофштейн с полковником вошли в комнату и приветливый свет свечки извлек ее из тьмы, — лишь в ту секунду у меня возникло ощущение, будто все это был кошмарный сон. Но это было заблуждение. Я бодрствовал все время и теперь вспоминаю, как я был удивлен, узнав в темноте Салиньяка. Что ему здесь надо? — недоумевал я, зная, что ему приказано зайти домой и переодеться испанским крестьянином. А вместо этого он вдруг остается здесь, уставясь в угол и теряя попусту время…