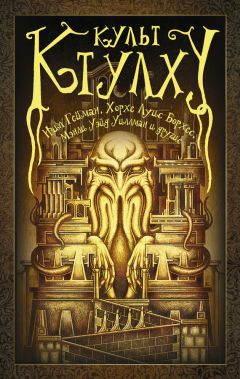В конце концов, Джон эдак рукой ее приобнял да и пошел с нею вон от Миллера. А по пути наклонился и в макушку поцеловал, легонько. Меня это так тронуло, эта любовь его, такая обычная, привычная, как будто так и надо. Он даже, помнится, не оглянулся.
Нет, Джон-то потом еще несколько раз к Миллеру приходил, да только был он какой-то далекий при этом. Просто сидел там, тихий, молчал. Кэрри больше с собой не приводил и на вопросы о ней не отвечал, если кто спрашивал. А потом просто отваливал, будто решал, что на фига он вообще пришел, плохая это была идея. И делал так почти каждый раз.
Кэрри мы так больше никогда и не видали. Нет, сэр, живой я ее с того дня больше не видел.
Было что-то такое странное в воздухе… Забавное такое чувство – ну, вы знаете, как это бывает.
Вот сидишь, бывалоча, вечером на крыльце – неважно, как на дворе холодно, я холодную погоду люблю – и просматривается оно все оттудова аж до Джоновой фермы. Я под конец заметил, что там у них свет горит всегда только на кухне, а наверху – нет. Никогда наверху нету света. А как-то раз, когда мне чего-то не спалось, я в три утра из окна выглянул – так свет, представляете, горел. Ни один фермер в такой час не бодрствует, вы уж мне поверьте. Такого попросту не бывает.
А потом Джон перестал приходить в лавку.
Ну, одно цепляется за другое: в общем, я решил, что у соседей что-то неладное стряслось. Вообразил, что вдруг Кэрри серьезно больна или вроде того. Черт, мы вообще-то все тут старые. Вот я и подумал зайти к ним, повидать, узнать, может, чем подсобить надо. Это почти любому в мире покажется самым нормальным делом, но вы понимайте: у нас, в Гарлоковой Излучине, такое вот вмешательство в личные дела – это очень серьезно; мы тут друг друга лишний раз не беспокоим и навестить не заходим, если нас сперва не позвали. Мы друг друга уважаем и оставляем в покое – держим, так сказать, дистанцию. Но, в конце концов, мне уже терпеть было невмоготу… не мог я оставаться ни при чем, хоть ты тресни, и вот как-то в субботу, поздно вечером, пришел к ним на крыльцо да в дверь и постучал. Никто не ответил. Мне это показалось не к добру, так что вскоре я уже колотил в дверь что было силы. Меня прямо тряхануло, когда Джон все-таки открыл – так, чуть-чуть приотворил эту чертову дверь. В проем я разглядел его кухонный стол – весь в грязной посуде да протухшей еде. В раковине еще гора посуды громоздилась – да и вся кухня выглядела несусветно грязной, прямо-таки заросшей грязью. Да и у Джона видок был такой же одичавший, нечистый. Башка была совсем в беспорядке, рожа бритвы просила, и уже давно. Выглядел он ну совсем не в свой тарелке.
Вот так он и стоял там, дверь только чуточку приоткрыв, вроде как выглядывал, будто боялся, что я возьму да и войду. Тут-то я и смекнул, что что-то не так – потому друзья так друг с другом не поступают. Он еще головой медленно эдак качал, вперед-назад, и уже даже дверь закрывать начал, будто вовсе меня не знал.
– Не велено мне никого внутрь пускать, – вот так вот прямо и сказал.
И голос у него был слабый и перепуганный.
– Нельзя мне, – молвил.
– Джон, – вмешался тут я, – ты должен меня впустить.
Что-то было неправильно, совсем неправильно.
– Я поговорить с тобой хочу, Джон, – сказал я. – Давай уже, пусти меня.
И я начал было уже толкать дверь, как он успел ее захлопнуть – и ничего я поделать не успел. А свет в кухне тут же погас, и весь дом как есть погрузился во тьму. Еще минуту или две я так на крыльце и простоял – все себя по кускам собирал. Совсем я тогда струхнул. И вот, сэр, что я вам скажу: следующее, что я сделал, это обошел кругом дома и заглянул в каждое окно, до какого дотянулся, да только ничего не разглядел, потому как света нигде не было. Ставни я тоже попробовал, но все оказались заперты; и все три двери, и даже ту, которая в подвал – но так ничего и не добился.
Как будто в доме годами никто не жил… Я стоял там, в темноте, и все кругом было тихо – только ночной ветер дул эдак легонько.
Река и правда прибывала, тихо ползла вверх по склону на задах дома. И звук такой хлюпающий, тяжелый издавала – очень зловеще выходило.
В животе у меня крутило болью, пот катился градом, хотя было совсем не жарко. Не иначе как что-то действительно скверное случилось с Кэрри и Джоном. Что именно, я даже гадать не хотел.
Весь следующий день и всю ночь у Джона на участке никакого движения не было. Я все время о нем думал и решил покамест ничего никому не говорить. Дело-то на самом деле было совсем не мое. И вообще, если уж на то пошло, ничего уж совсем необычного-то и не происходило – так, страхи какие-то нелепые.
А назавтра я углядел, как Джон идет через участок к себе в молочную, несет ящик, с виду очень тяжелый. Ну, мне-то со временем все едино, я человек свободный, так что решил, не откладывая, пойти потолковать с ним, пока он в молочной – может, даже дорогу ему заступить и не выпускать, пока он не скажет, как на духу, что у них там творится. Когда я перешагнул порог, он как раз тягал из ящика квартовые банки с персиками и опускал их в корыто с водой, чтобы, значит, охладить. Он поднял на меня глаза, потому что я ему свет загораживал – и не улыбнулся.
– Кэрри всегда персики любила, – сказал.
На сей раз он был весь чистый, отмытый.
– И я тоже, – кивнул медленно, осторожно.
– Много их у нас. Хочешь домой взять? – и протянул мне кварточку.
Ну, прямо скажем, счастливым он при этом не выглядел, вот от слова совсем, а так все было как будто самый обычный день, ничего из ряда вон. Но как-то не верилось мне ему. Неестественно это было, вот хоть зуб давай.
– Ты вот что, – сказал я, стараясь держать в узде и мой голландский темперамент, значит, и страхи заодно с ним. – Что у вас тут происходит, Джон? Какого дьявола с вами творится?
– Ничего тут не происходит, – сказал он медленно, пристально глядя на меня.
Мне не по себе стало. Все-таки его ферма, его земля… Нельзя, чтобы он думал, будто я ему не верю. Если ты человеку не веришь, не доверяешь, ничего между вами хорошего уже не будет. А я этого совсем не хотел.
В общем, я секундочку подождал и решил ломить через лес.
– А Кэрри-то где? – спросил.
Он постоял немного молча, оглядывая меня с ног до головы, а потом решил, видимо, что я право имею.
– В доме, – сказал. – Больна была. Очень сильно больна.
И банку последнюю в корыто опустил.
– Ну, знаешь, – добавил тихо, – моложе-то никто не становится. Правда ведь?
И улыбнуться попробовал, но улыбка не задалась.
– Может, кого-нибудь стоит на подмогу позвать, – сказал я. – Типа руку помощи протянуть, подсобить, знаешь. Многие из нас за честь бы почли…
– Не нужны мне никакие руки, – отрезал он. – И помощи мне не надо.