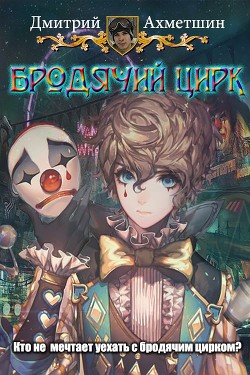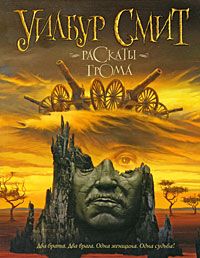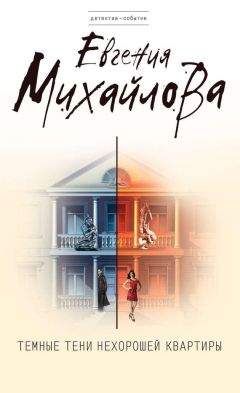— Пустая трата сил и времени, — сплюнув, заметил Валентин. — За что мне себя уважать? Я всю жизнь жил, забившись в дыру, как крыса. И… даже если всё это вдруг окажется одним длинным, страшным кошмаром, призванным чему-то меня научить, я не собираюсь менять свою жизнь. Мы с ней нашли подход друг к другу.
— Твоя страсть к чужой жизни, — Алёна провела рукой над заваленным хламом столом, стараясь ничего не коснуться. — Это какая-то разновидность фетишизма?
Она думала, что он разозлится, хотя и не слишком понимала, зачем ей понадобилось его злить. Но добилась только куска холодного и невкусного, как испортившееся масло, молчания. Оно не было точно отмерянным, оно могло длиться и длиться, пока спины слонов не подломятся и мир не рухнет, как яичница со сковороды. Но, несмотря на всё, что Валентин утверждал, в одном он был волен — ставить точку там, где пожелает.
— Тебе нужно придумать, как меня отсюда забрать, — хмуро сказал он, вытирая ладони о штаны.
Алёна чуть не расхохоталась.
— Ты не больно-то хочешь жить. Зачем мне тебя отсюда вытаскивать? Того, что я увидела и услышала, достаточно, чтобы понять: большому миру от того, что ты в него вернёшься, не станет лучше.
Акация раскричалась, и Валентин согнал с её носа крупное летучее насекомое. Он сказал голосом сварливой тётушки:
— А зачем ты проделала такой долгий путь? Насколько я знаю, обычные люди не любят тратить время зря.
— Я была околдована, — сказала Алёна. — Это был морок. Кто-то создал в моём воображении замкнутый мир, двойника квартиры, поселил в него идеального страдальца.
— Так вот он я, — на лице мужчины, словно прорвав какие-то барьеры, появилась бесконечная усталость. — Идеальный страдалец. Я ничем не заслужил твоё доброе отношение, знаю… и ты права. Ты читала про моих родителей? Они до сих пор здесь, являют собой яркие образы, напоминающие, что я могу стать таким же, что я могу стать ещё хуже, гораздо хуже, если однажды хоть на миг ослаблю поводок.
Он подался вперёд. Алёна отступила на шаг; их разделял всего лишь стол, который этот страшный человек мог обогнуть в одно движение.
— Я слышу, как в твоих карманах звенят ключи от моей клетки! — торжественный шёпот каким-то образом расколол лицо на две половины, и Алёна, всматриваясь в него широко распахнутыми глазами, никак не могла понять, по горизонтали или по вертикали. — Давай же, доставай их. Или я недостаточно тебя напугал?
— Ты сочинил прекрасное завершение своему дневнику, — сказала она, стараясь сохранить хотя бы крохи спокойствия. — Очень трогательное. Дочитав до той части, где Мария рассказывает про цветок в волосах, я не выдержала и расплакалась. Ты говоришь, что всё это выдумки, твои догадки и теории относительно того, как всё происходило, но о таких вещах не может писать плохой человек. И сейчас ты блефуешь. Любить до конца жизни и даже после неё — великий труд — твои слова, не её. Ты вёл диалог сам с собой, искал оправдания своей любви к Акации. К великой матери, которая замучила своих дочерей до смерти.
Валентин опустил руки, так, будто силы покинули его. Алёна не видела слёз, но знала, что глубоко внутри он истекает ими.
— Прости, но я действительно не знаю, как это сделать, — она покачала головой. — Рано или поздно снотворное перестанет действовать, и я проснусь.
— Ещё есть время, — мужчина всхлипнул. Злобная и тяжёлая тень залегла в складках его лица. — Ты могла бы подумать. Но ты же не хочешь, правда? Говоришь себе: «Зверю, который попался в капкан, лучше там и оставаться. До сих пор он давился травой, но кто поручится, что в один прекрасный момент он не обнажит зубы?». Но вот я спрашиваю тебя: Как же человеколюбие? Всепрощение? Это громкие слова, и видя твои прекрасные глаза, видя твоё светящееся изнутри лицо, я понимаю: для тебя они многое значат. Ты ведь умеешь летать, правда? Или умела когда-то. Так или этак, ты всё ещё не забыла чувство, когда ветер перебирает волосы, а земля несётся далеко внизу со скоростью гоночного болида. Такие как ты терпеть не могут, когда кто-то лишён возможности испытать это божественное ощущение.
— А как же Акация? Ты её оставишь?
— Конечно, нет, — слегка сбитый с толку вопросом, Валентин пожевал губами. — Я заберу её с собой. Мы — две души, прибитые к земле ураганом от ваших крыльев. Мы рождены ползать, рождены, чтобы смотреть в замочную скважину. Что ж, я готов. А она? Что ей остаётся c такой-то внешностью и с такой душой? Она была императрицей в своём крошечном мирке…
— В извращённом… — вырвалось у Алёны.
— Для меня не существует такого слова, — высокопарно заявил Валентин. — Вы, обитатели системы, выглядываете из своих кают, называя всё, что не вписывается в рамки, извращением.
Он спохватился, сказал прежним, где-то даже заискивающим голосом:
— Читать надписи, проходя мимо изгаженных стен — ведь не преступление, верно? Для Акации там, снаружи, настанут тёмные времена. Она проживёт ужасную жизнь, и ей повезёт, если она будет недолгой. Маятник качнулся в другую сторону, а весы уравновесились. Но я — тот, кто будет о ней заботиться. Ты спросишь, почему?.. Я чувствую родственную душу. Это обстоятельства сделали из неё чудовище, а она… она оказалась слишком слабой. Бедняжка, не смогла противиться всепоглощающей силе любви. Но теперь я буду учить её, и, прежде всего, смирению. Тому, в чём я действительно хорош.
Алёна слушала с закрытыми глазами.
— Ты попал сюда случайно, а она — нет. Она полноправный участник происходящих здесь событий, ужасных событий. Она замучила двух девочек до смерти, а третьей… кто знает, выправилась бы детская психика, если бы Мария осталась в мире людей?
— Не тебе судить! — в глазах Валентина полыхнул огонь, вдруг, в одну секунду, сменившийся мольбой:
— Выпусти нас. Пожалуйста. Выпусти, и мы исчезнем. Ты никогда больше ничего о нас не услышишь.
Алёна терпеливо выдохнула.
— Но я не могу…
— Я чувствую, ты врёшь! Ты знаешь путь наружу, просто не желаешь говорить. Если ты… если так, то я выбью из тебя признание.
Это самое чувство… будто ручка писателя нависает над строкой, готовая поставить точку в длинном предложении. Вся жизнь Валентина в нём, в нелепых деепричастных оборотах, в не к месту поставленных местоимениях, недосказанностях и вопросах, и вот теперь кто-то готовится замкнуть круг. Сделать явью все его кошмары, помочь злобной душе, у которой перед глазами было множество дурных примеров, наконец обрести себя. А в глазах невидимого, вездесущего существа светилось торжество: я же говорил! Я знал, что этим кончится. Он так хочет отсюда вырваться… уверена ли ты, что его место там, а не здесь, со всеми этими больными, покорёженными душами?
Что-то щёлкнуло в голове. Будто взведённый курок. Алёна повернулась и пошла к двери. Подошвы кроссовок торопливо и громко стучали по коридору. Лампочка моргнула; Алёна слышала как там, в зале, перевернулся стол, когда Валентин бросился за ней в погоню.
Девушка остановилась возле входной двери, обитой похожей на дермантин плотью. Спиной она ощущала поток горячего зловонного воздуха, вырывающегося из прошитой капиллярами глотки в кухне. Толстые, длинные листья и плотоядные растения шевелились, пожирая друг друга, сплетаясь корнями, словно пытаясь скрыть следы преступления. Алёна не оборачивалась. Она подняла голову, вперив взгляд в дверной глазок, который оказался выше, чем она ожидала. Сместившись, он посмотрел на неё; волосы зашевелились, касаясь плеч девушки. От них пахло, как ни удивительно, ромашковым шампунем. Покорёженные пальцы, которые Валентин разбил молотком, подёргивались.
— Привет, средняя сестра, — сказала Алёна, отметив, что голос не дрожит. Она твёрдо знала, что будет дальше. — Открой, я не должна здесь находиться.
Громкий смех всколыхнул стены. В коридоре стоял, широко расставив ноги, Валентин с Акацией на руках. Живот его колыхался.
— Ты думаешь, я не пробовал такой фокус прежде? — спросил он, захлёбываясь. — Ничего здесь не боится человеческого голоса, и не в нашей власти командовать порождениями мрака…