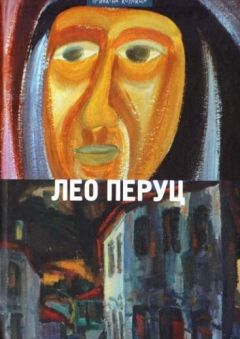Издалека, со стороны полей, через распахнутые окна доносилась музыка шарманщика. Он играл мелодию народной песни «Андулько, деточка моя». Славная песня, эта «Андулько», с ее регулярными переходами от застенчивого «она» к восторженному «ты».
Андулько, деточка моя,
Она милее всех.
Андулько, девочка моя,
Я так тебя люблю!
Затем происходит внезапная смена ритма:
Но люди мне не разрешают
К тебе ходить, к тебе ходить.
Мне, бедному, не позволяют
Тебя любить, тебя любить.
Эта мелодия навсегда останется для меня неразрывно связанной с тем весенним днем. Ибо когда я поднялся с дивана, прислушиваясь к се звукам, мой взгляд неожиданно упал на снимок, стоявший на столе фельдфебеля.
Это была фотография в рамке из красного дерева, и на ней были изображены фельдфебель Хвастек в форме лейтенанта, рядом с ним очень красивая стройная девушка в летнем платье, а за ними краешек, как мне показалось, Хальштеттер-Зе.
У меня сильно екнуло сердце, так как я узнал девушку на фотоснимке: в раннем детстве я часто встречал ее на теннисном корте возле Бельведера, куда ходил вместе со своей старшей сестрой. Я не видел ее уже много лет, но часто вспоминал о ней и поэтому сразу узнал ее. И меня, глупого восемнадцатилетнего мальчика, внезапно обуяла нелепая ревнивая ненависть к фельдфебелю — за то, что на этой фотографии он стоял в великолепном лейтенантском мундире рядом с девушкой, держа одну руку на эфесе своей сабли, а другою едва не касаясь ее руки, Я завидовал ему из-за всего: из-за девушки, из-за лейтенантских звездочек, из-за чудесного летнего дня, даже из-за озера — было ли это Хальштеттер-Зе или какое-то другое. Я не мог оторвать взгляда от снимка; меня захлестнули воспоминания о тех давно минувших днях, мне припомнилось много мелких и незначительных эпизодов: то, как однажды я видел ее перепрыгивающей через лужу, как во время ливня я предложил ей свой зонт — в тот день на ней был широкий берет василькового цвета с прикрепленным к нему длинным пером. И еще я вспомнил, как однажды она провожала мою сестру до дома, как она дошла с нами до самого подъезда и даже, наверное, поднялась бы к нам в квартиру, если бы не было так поздно. А по дороге она разговаривала не только с сестрой, но и со мной, мы беседовали о Шиллере и его «Телле», который как раз в те дни шел в Национальном театре, — впрочем, возможно, что моя память меня обманула, и это была совсем другая девушка.
Я продолжал смотреть на фотографию, а издалека по-прежнему доносилась мелодия песни «Андулько, деточка моя». И пока я так стоял, мне внезапно пришла в голову озорная мысль. У меня в бумажнике лежала моя собственная фотография, снимок кабинетного формата. Я тайком достал его и вставил в рамку, так что он полностью закрыл изображение фельдфебеля. Затем я отступил на шаг и испытал ликующее чувство: теперь уже я, а не он, стоял рядом с девушкой, совсем рядом, едва не касаясь ее рукой, и ее лицо было полуобернуто к моему. Ее губы были чуть приоткрыты, как будто она беседовала со мной вполголоса, хотя бы о том же Шиллере. И мне представилось, что мы идем рука об руку по Водной улице, в сумерках, как в тот раз, и беседуем о театре и постановке «Телля». И я забыл о настоящем, о военной службе, ружейных приемах, упражнениях на перекладине, проверке ранцев, утреннем подъеме, маршах; забыл обо всех тяготах, как минувших, так и предстоящих, и снова стал маленьким влюбленным школьником, с замиранием сердца идущим по улице в сопровождении любимой девушки из далекого прошлого.
Неожиданный толчок в плечо вывел меня из оцепенения — фельдфебель закончил чистить брюки и стоял возле меня.
— Что случилось? Что это вы тут стоите, выпучив глаза, словно мул, навьюченный боеприпасами? Ах, вы разглядываете фотографию. Ну и как — она вам нравится? Бьюсь об заклад, что да. Другим она тоже понравилась.
— Вы се знали? — спросил я, смутившись. Говоря по правде, мне очень хотелось узнать, что между ними было, как он очутился на этой фотографии рядом с ней, не был ли он часом с ней обручен. И я задал самый дурацкий и неуместный вопрос, который только можно было придумать:
— Вы были с ней близки?
Немного помолчав, он произнес очень серьезным и задумчивым голосом, какого я раньше у него не слышал:
— Были ли мы с ней близки? Как можно ответить на подобный вопрос?
Он снова замолчал, и я тоже не произносил ни слова, хотя мое сердце колотилось от волнения и ревности.
— Близки! — продолжил он, и теперь со мной разговаривал уже не фельдфебель Хвастек из «Картечи», но другой, совершенно незнакомый мне человек, голоса которого я прежде никогда не слышал. — Что вообще означает это слово — «близки»? Мы стояли друг подле друга и смотрели на один и тот же уголок озера, вот и все.
Он повернулся, склонился над столом и принялся листать один из сатирических журналов.
— Полагаю, что ближе один человек к другому стоять не может, — сказал он спустя какое-то время, по-прежнему не глядя на меня и продолжая листать старый журнал. — Что вообще связывает нас всех друг с другом? Мы лишь стоим в одной и той же точке пространства, и ничего больше. Разве не так?
Внезапно он поднял голову и заметил мою фотографию, которую я не успел вовремя убрать.
Он громко расхохотался, а я густо покраснел, проклиная себя за свою глупую мальчишескую выходку. Впрочем, его лицо снова приняло серьезное выражение, и он достал мою фотографию из-под рамки.
— Вам вовсе нечего стыдиться, — сказал он без тени насмешки, с легкой, едва различимой горечью в голосе. — Многие до вас делали абсолютно то же самое. Многие ставили себя рядом с ней, помещали себя, так сказать, в ту же точку пространства. И им казалось, что наконец-то они близки к ней. Кое-кому это почти удавалось. Один из них и по сей день находится там, загораживая собой меня. Но означает ли это, что он стоит к ней ближе?
Он надел мундир. Его движения были преувеличенно резкими и решительными.
— Запомните, — добавил он, — ни один человек не бывает близок к другому. Зарубите это себе на носу! Даже лучшие друзья всего лишь стоят друг подле друга, в одной и той же точке пространства. И все то, что называют дружбой, любовью или супружеством — все это ничем не отличается от того, как если бы мы силой втискивали свое изображение под одну рамку с другим. Одерните мне складки, вольноопределяющийся, и мы выходим!
Я с изумлением смотрел на фельдфебеля. В его словах, как мне казалось, заключалось много верного, даже своего рода философия, но откуда он мог ее взять? Я не верил, что он был способен дойти до нее своим умом. До этого дня я не слышал от него ничего такого, что выходило бы за рамки тривиального — норой с шутливым, порой с грубоватым оттенком. Я огляделся по сторонам, ища взглядом ту книгу, из какой фельдфебель мог почерпнуть столь мудрые мысли. Но я увидел одни детективные романы да старые подшивки юмористических журналов, из которых он в принципе не мог почерпнуть ничего подобного.