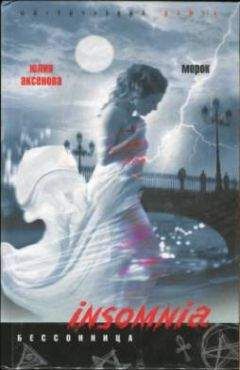Я смотрю неотрывно. При этом я высоко поднимаю голову — не знаю почему, просто подбородок сам тянется вверх — и всей кожей лица чувствую, что на нем застыло выражение глубокой горечи. Скорбное выражение я могла бы заменить на любое другое, но зачем?
Большинство людей, попадающихся мне навстречу, как и я, хранят на лицах непраздничное, угрюмое выражение. Одеты как обычно: кто в черное, кто в коричневое. Новогодье, скоро Рождество, веселая иллюминация на улицах, яркие открытки, шарики и забавные игрушки на всех углах. А наше мрачное настроение создает контраст веселому и доброму празднику, который я всегда так любила.
Внимательно вглядываюсь. Если мужчина случайно это замечает, он обязательно торопливо отводит глаза. Я думаю, что мое внимание каждому из них кажется вполне естественным, но пугает: эта уже не совсем юная, замотанная и, судя по взгляду, напичканная неврозами женщина явно напрашивается в его жизнь и в его сердце! Зря, конечно, боятся…
Сколько сарказма в моем «зря»! Злая становлюсь. Нехорошо…
Я ищу. И у моих поисков есть вполне определенная цель. Я хочу увидеть того мужчину, к которому потянется моя душа. Я стараюсь не обращать внимания на внешность. Глаза, выражение лица — вот что важно.
…Так. Осмотримся в вагоне… Вокруг нет. Ну-ка, а в том конце?.. Здесь тоже нет. Зато есть свободное место…
Да, хотела бы я понять, почему сердце ни к кому не тянется. Почему оно молчит, как партизан после допроса с пристрастием?..
Эй, сердце! Смотри, какой симпатичный! Глаза большие, серые, как я люблю. Молчит. Как заледенело. «Заметает зима, заметает все, что было…» А что было? Не помню. Я раньше такой не была. Какой была? Просто жила, как живется.
Это случилось совсем недавно. В ноябре, в Париже.
Ольга, попутчица, сказала: «Париж — город для двоих». Я ясно поняла, что она намерена вернуться сюда вдвоем. И вдруг почувствовала: я сюда ни с кем вдвоем не приеду, я одна — и буду одна.
Почему-то я не осознавала этого до того, как Ольга сказала про двоих. Как ревела, вспомнить страшно. На виду у всего Парижа. Это перед отъездом было. В последний день. Мы как раз должны были вечером улетать, а я чуть не опоздала, народ с ног сбился — меня искали. В нормальном состоянии со стыда бы сгорела. А тогда почти все равно было. Почему опоздала-то? А, я убежала тогда. Все — в Лувр, а мне не хотелось. Из-за Ольги этой с ее разговорами по душам… Интересно, как она сейчас: может, собралась в Париж на Рождество, вдвоем?.. Я убежала и шла куда глаза глядят. Нет, определенно шла: вдоль Сены, по набережной, чтобы холодный ноябрьский ветер продирал до костей. Чтобы заглушить душевную боль. Как бы не так!
Иду-иду, вроде даже легчает. Смотрю, Нотр-Дам передо мной. Как не зайти? Внутри туристов полно — а пусто. И ясно, что вся жизнь отсюда еще веке в семнадцатом ушла; остались одни стены, которые давно потеряли и память, и способность чувствовать. Надеялась: хоть с собором пообщаюсь — все не одна. Нет, и тут одна.
Пробило. Села на лавку — и реветь. Едва ли не в голос — не помню. Люди подходили, да все не те. Не те… Нет, не хотелось им ничего рассказывать: never mind — и привет.
И как я только ухитрилась в таком состоянии на этого пьяного внимание обратить — на свою голову?!
…Ой, какая была? Ну, так и есть: моя! Проехала. Ах ты! И без того припозднилась… Да ладно. Кому это все надо — ничегонеделание мое…
Кому я все время рассказываю эту историю?
Лене сразу рассказала. Вере тоже рассказала, хоть знаю, что она растреплет мужу, но ему-то дела нет. Павлику рассказала — во всех подробностях; почти насильно заставила меня выслушать, хоть он торопился куда-то и вовсе не был настроен долго со мной беседовать.
Почему она меня не отпускает? Почему я все время мысленно кому-то рассказываю ее и не могу остановиться?..
Я увидела его, как только вышла из собора. Нет, не так сразу. Я взяла зеркало, стала разглядывать лицо: не слишком ли зареванное. Заметила, что волосы надо поправить, и повернула зеркальце немножко вбок. Мне показалось, что этот мужчина буквально вырос за моей спиной. Он стоял в отдалении, я видела почти целиком его фигуру и, конечно, ни лица, ни глаз не могла бы разглядеть толком. Да я и не старалась. Мне только почудилось, что он смотрит прямо на меня. Помню, что такое ощущение было, но теперь уже не понимаю, откуда оно взялось. Ни один незнакомый мужчина ни до, ни после не смотрел на меня так прицельно с такого отдаления. И одновременно показалось, что более приятного и симпатичного я в жизни своей еще не встречала.
…Так, приехали. Вы выходите? Спасибо! Ой, маленький, осторожнее! Ну, теперь беретку…
Я захлопнула зеркало и обернулась. В первый момент растерялась: нет его. А потом увидела. Мужчина уже повернулся спиной ко мне, но я узнала одежду: он был удивительно прилично для его безобразного состояния одет. Я поняла, почему он как будто вырос за моей спиной: он, видимо, только что поднялся с тротуара. Его красивое демисезонное пальто — длинное, черное, материал мягкий, ворсистый, даже на вид умопомрачительно натуральный — сердце заходится от одного эстетического удовольствия… Так вот, его пальто было измято и в пыли, и пара-тройка сухих листьев к нему пристала. Короткие волосы встрепаны.
Он медленно удалялся от меня: шел, заметно пошатываясь, держа руки в карманах и от этого сильно ссутулившись, кажется, что-то даже мычал про себя.
В целом, он еще бодренько держался, но ведь день только начинался.
Я — будто не русская! — не люблю и не жалею пьяных. Противны они мне. Потому что чувствую: человек уже не принадлежит себе, и прет из него нечто обобщенно-примитивное, мутное и дурно пахнущее, как… Фу…
Но от этого с утра надравшегося француза или нашего, командировочного, веяло на меня, как из зеркала, лишь глубокой безнадежностью одиночества.
…Ох, на этом перекрестке теперь сто лет не перейти. И славно: еще немножко времени есть подумать…
Пьяненький брел по направлению к мосту. При виде его сутулой изгвазданной спины и шаткой походки мое сердце стискивалось от сочувствия. Я неизвестно с чего вдруг решила, что он нуждается в помощи. Такой одинокий, заброшенный! Эта его дорогая одежда, приличный вид… Никому не было дела до того, почему еще недавно благополучный человек стремительно опускается, еще немного — и сорвется с моста, камнем пойдет на дно.