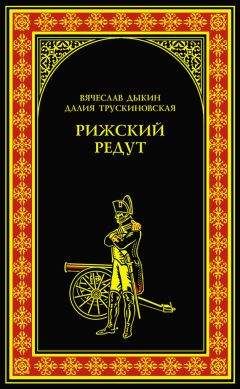Дуня выбежала в прихожую — сказать присланному лакею, что барыня скоро выйдет, и вернулась. Анета уже держала коробочку с мушками, выбирая — какую налепить.
— Вот эту, побольше, сюда, — подсказала Дуня, едва прикоснувшись пальцем к напудренному подбородку.
— Шаловливую? — Анета призадумалась. Выбор мушки был делом большой важности.
— Плутовку?
Эта мушка сажалась ближе ко рту. Но если налепить чуть повыше — то она уже означала готовность к галантным похождениям, что было бы преждевременно.
— Тиранку! — решила наконец Анета и приладила мушку на виске, у правого глаза. Другую — в декольте, но не слишком глубоко, чтобы не выглядело как приглашение. И, припудрив нос, поспешила вниз.
Жизнь была бы совсем прекрасна, кабы не проклятые итальянки!
Но когда нарядная карета доставила ее с поклонником в милый особнячок, когда они поднялись по лестнице — за полуоткрытыми дверьми услышали голос.
Это был сочный мужской голос, довольно сильный, поставленный. Анета даже знала певца по совместным выступлениям. Ему предстояло сегодня петь — и он готовился, распевался, пробовал низы и верха. И вдруг пропел:
— Неведомо мне то, увижусь ли с тобой, ин ты хотя в последний раз побудь со мной! Со мной… Со мной… По-будь со-о-о мной…
И не стало перил, о которые Анета оперлась рукой, не стало ярко освещенной лестницы.
На коленях, в трясущейся карете, в страшном мраке, удерживая умирающего…
Вот так они и были вместе в последний раз!..
Год назад? Ровно — год?..
Анета резко повернулась к поклоннику. Ей захотелось даже не убежать — вообще непостижимым образом исчезнуть отсюда прочь. Она не могла слышать эту песню! Или, может быть, могла бы, ведь столько времени прошло, но не видя при этом рядом с собой человека, который все равно, при величайшем желании, не мог ей дать того, что однажды не сбылось!
— Покинь тоску — иль смертный рок меня унес? Не плачь о мне, прекрасная… Пре-крас-на-я… Не трать ты слез…
Певец трудился точно так же, как сама Анета перед зеркалом, бесстыдно задрав юбки и разучивая позы. Он искал для слов господина Сумарокова наилучшее выражение, не слишком серьезное, поскольку угроза смерти в этих стихах — и та была отчаянно-залихватской, но и не слишком шаловливое — все-таки песня влагалась в уста молодого офицера…
Певец не знал, что эта песня навеки принадлежит мертвецу.
* * *
Присутствие ангела мешало. Андрею Федоровичу все казалось, что ангел слушает вполголоса читаемые молитвы и не одобряет их…
Он полагал, что ангела должно раздражать такое тупое бормотание — не ввысь, в купол храма или в чистое небо, а себе под ноги. И невольно возражал ангелу — в храме-то всякий сможет, там одна молитва с другой срастается, голос к голосу, как перышко к перышку, и слагаются белоснежные крылья для прекрасного взлета. А ты вот на улице, в суете, в толчее…
От имени ангела Андрей Федорович отвечал себе — кто ж гонит в суету и в толчею? Ты пойди в храм и погляди наконец ввысь!
И тут же он возражал — с неба-то одни купола с крестами и видны, и возносящиеся ввысь мольбы — как снопы света, кто там станет разбираться, где чья. А одинокая молитва из гущи людской, одинокая и непрерывная, наверняка видна отдельно, и виден тот, кто ее посылает, — в зеленом кафтанчике, с непокрытой головой, бывший полковник и царицын певчий, а ныне странный человек Андрей Петров.
На это ангелу возразить было нечего — так считал Андрей Федорович. Но неземной спутник не отставал. Тогда Андрей Федорович обернулся — и был поражен скорбью ангельского лика.
Очевидно, ангел, следуя за ним, оплакивал его грехи. Те, от которых не сумел уберечь.
Горько стало Андрею Федоровичу.
— Что же ты?.. — спросил он.
Вопрос длился менее мгновения. Но, как из-за облака вдруг появится, да и скроется тут же случайный луч, на осунувшемся и неумытом лице странника ожили глаза. Это были глаза растерянной женщины, с женской болью и женским упреком.
Ангел понял все и сразу.
— Что же ты допустил, чтобы твой — твой! — человек умер без покаяния? И ушел с грузом грехов своих? Что же не удержал в нем сознание еще на несколько минут? Где же ты был? Почему от глупых неурядиц хранил исправно, а в самую важную минуту взял — да и куда-то подевался? — услышал ангел вполне явственно, ибо это были не слова, а что-то иное, сжатое, стиснутое в единый взгляд неимоверной плотности, взгляд, обладающий силой и весом.
Вот и все, что позволил себе Андрей Федорович, вопреки желанию, только это, и сразу спохватился. Но ангел спохватился первым.
— Молчи!.. — прошептал он. — Молчи, Бога ради…
Андрей Федорович кивнул и пошел дальше.
Ангел — за ним.
И обоим казалось, что этого мгновения слабости сверху заметить было никак невозможно.
Андрею-то Федоровичу простительно, он сейчас соображает непонятно, ему еще и не то на ум взбредет. Но ангел-то обязан понимать?..
Обязан-то обязан. Да только казалось ему, что может он прикрыть Андрея Федоровича крылом — и сквозь то крыло ничего сверху будет не разглядеть. Хотелось ему, чтобы так было. Хотелось — да и все тут.
* * *
— А что ни говори, Петрова недостает, — сказал вельможа. — Двенадцать теноров в хоре — а такого ни у кого нет. Недаром его за пение в полковники государыня произвела.
Приятель-батюшка покосился на него — кто же не знал про любовь Елизаветы Петровны к певчим? Вот и муж ее венчанный (все о том знали, да молчали) Андрей Разумовский как ко двору попал? Да через свою мощную глотку!
— А что, верно ли, что государыня хворает? — осторожно полюбопытствовал он.
— Верно, увы… — сказав это, вельможа в полной мере проявил свое доверие к священнику, поскольку при дворе о болезни Елизаветы Петровны велено было молчать и слухов не распускать. — Но, Бог даст, обойдется. Стояли мы сегодня службу, слушал я голоса и думал — нет, с Петровым иначе звучало!
День был воскресный, многие норовили попасть в дворцовую церковь для того, что в обычные дни там пели обыкновенным напевом, а в воскресные, когда непременно являлась императрица, — особо сочиненную обедню и псалмы, которые положил на музыку итальянец Галуппи.
— Сколько уж, как нет Петрова? — И батюшка сам задумался, припоминая. — Два года!
— А что, вдова его все ходит по улицам? Не опамятовалась?
— Все ходит. И подают ей, только она все раздает другим. Любят у нас юродивых, слава Богу, с голоду помереть не дадут.
Батюшка встал, оправил рясу, подошел к окну, словно бы желая показать, как мимо недавно отстроенного особняка вельможи, ставшего украшением Васильевского острова, колоннами маршируют убогие. Да так оно, в сущности, и было: вельможа выбрал место неподалеку от Смоленского кладбища, а где и кормиться увечному, жалкому, несчастному, как не при кладбище?