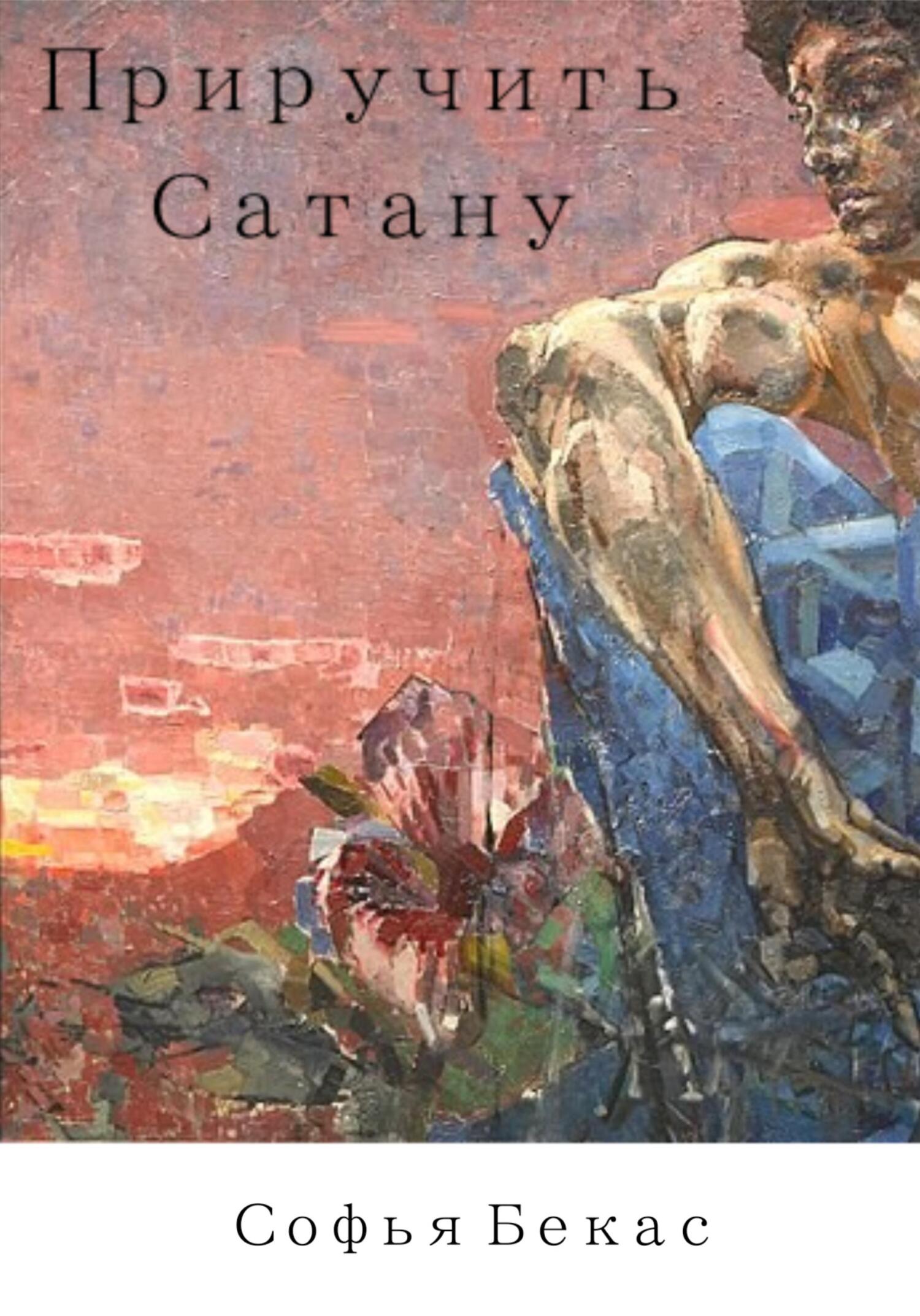может в человеческой душе родиться такая сила?» «Только в человеческой и может, — отвечал ей в мыслях её же голос. — Только человек может так любить и страдать… Поэтому он и человек».
Ева не знала, где она сейчас находится и как далеко ушла от дома. Бывали дни, когда она проводила целые сутки в своей квартире, не выходя на улицу, а бывали дни, когда она, наоборот, едва проснувшись, ещё до рассвета уходила из дома и возвращалась только для того, чтобы поспать. Такие не свойственные ей качели поначалу пугали Еву, но потом она что-то поняла, и это «что-то» теперь давало ей право делать вообще всё, что ей заблагорассудится.
Ева устало вздохнула, подняла голову, чтобы прочитать название улицы и всё-таки узнать, где она находится, а затем встала и побрела в обратную сторону. «Вот и ещё один день подошёл к концу, — подумала она, спускаясь вдоль трамвайных путей вниз, к площади. — Что это за странное чувство у меня в груди? Как будто… Как будто это конец. Но конец чего? Дня? Месяца? Или… Что ж, может быть».
Ева сама не заметила, как вернулась домой. Она чувствовала себя плохо, как будто какая-то песчинка попала в её душу и теперь мешала ей, заставляла слоняться по миру, не находя себе место. Она медленно, насколько это было возможно, вошла в подъезд, перед этим оглядев его, как будто желая убедиться, что это действительно он и она ничего не перепутала, а затем в раздумьях остановилась перед лифтом. Что-то в нём не понравилось Еве, и она, всё так же медленно переставляя ноги, стала подниматься по старой, разбитой серой бетонной лестнице на свой родной этаж.
Кажется, она никогда толком и не поднималась по этой лестнице; спускаться — да, но подниматься… Уж слишком много ступеней в ней было, особенно для обычной, ежедневной, мирской жизни. Но сейчас что-то изменилось. Ева задумчиво остановилась на середине пролёта и посмотрела вверх: над ней возвышалось бесконечное количество ступеней, по которым, наверное, дальше пятого этажа никто и не ходил, и ей вдруг захотелось преодолеть всё это расстояние, прочувствовать каждый шаг, чтобы каждый её след оставил след в её душе. Теперь она поняла Ранеля. Она сделала шаг, ещё один, а потом ещё и ещё. Она шла нарочито медленно, оттягивая время незнамо перед чем, но между тем верно приближаясь к чему-то неизбежному, тому, что до этого дня она не знала, но о чём так часто думала. Сейчас она не думала о нём, но чувствовала его как никогда раньше. Ева слышала, как где-то на улице зашелестел дождь, и без того тёмная лестница стала ещё сумрачнее, и каменный холод обдал её своим мертвецким дыханием. Шаг. Ещё шаг. Где-то этажами выше скрипнула, оглушив глухие бетонные стены, на осеннем ветру приоткрытая форточка, и влажный запах прели и дождя заполнил собой закрытое пространство. «Печальное время, время тоски по ушедшей весне», — вспомнились ей слова Амнезиса, и, наверное, впервые она по-настоящему поняла, что он имел в виду, или это она растолковала их по-своему. «Ушла моя весна, — как-то холодно и равнодушно, принимая за факт, подумала она, поднимаясь всё выше и выше. — Нет никого, всё ушло: я одна, одна во всём мире. Так зачем я здесь? Я всё уже сделала, по крайней мере, на этом свете. Четыре месяца прошли как четыре дня, словно их и не было, а всё потому, что мне больше нечего здесь делать… Абсолютно нечего».
Её шаги гулко отдавались от голых стен пустой бетонной коробки. На какой-то момент она даже забыла, кто она на самом деле, как её зовут и что с ней было раньше, она только шла вверх, переставляя ноги с одной каменной ступеньки на другую и раскачиваясь из стороны в сторону, как тот самый маятник, который отсчитывает её время. Шаг. Ещё шаг. Сколько уже этажей прошла она? Семь? Десять? Она не знала. Она снова перегнулась через перила и, подняв голову, посмотрела вверх, считая пролёты… Им не было конца. Тогда она посмотрела вниз и увидела под собой такую же бесконечность лестницы, закручивающейся вокруг себя по спирали, словно огромный серый змей. При мысли о драконе что-то смутно знакомое зашевелилось на задворках её памяти, но она так и не вспомнила, что именно.
Она устало остановилась на одном из лестничных пролётов и прислонилась спиной к холодной мокрой стене, переводя дыхание. Сначала над ней скрипнула на ветру рассохшаяся от времени и давно не крашенная деревянная форточка, а затем слева от неё — старая входная дверь. За окном глухо прорычал гром. Поток сырого воздуха дохнул в пустое мёртвое здание, и перед глазами Евы медленно упал на пол пожухлый, мокрый и полугнилой кленовый лист, ещё в сентябре радовавший её своими яркими красками. Ева задумчиво наклонилась и подняла его. «Брось меня, — как будто сказал ей лист, оказавшись в её руках. — Посмотри, каким я стал: я уже не тот, что был когда-то, не полыхаю осенним пожаром и не выделяюсь на фоне ультрамаринового неба. Я сырой и бледный. Зачем я тебе такой нужен? Отпусти меня, дай мне спокойно сгнить в земле… Так от меня хоть какая-то польза».
— Ты река ль, моя быстрая, ты река ль, моя реченька… — вдруг запела Ева, и её светлый голос отразился хрустальным звоном от голых стен подобно чистому роднику. — Ты течёшь, не колыхнешься…
Ева повернула голову и увидела число «двенадцать». Её сердце ёкнуло, но она, сжав кленовый листочек в пальцах, пошла к себе… домой.
Всё было как прежде: ничего не изменилось в квартире с тех пор, как её впервые увидел мой читатель; казалось, она застыла во времени вместе с той, что в ней жила, и каждый день возвращала её назад, к тому дню, когда она уснула, зачитавшись Библией. Всё та же тишина, нарушаемая лишь шумом с улицы, висела в каждой комнате, коих было всего три, всё тот же мёртвый покой, как стоячие воды забытого пруда, растекался по полу и топил собой единственного жителя, и всё тот же безупречный порядок говорил об отсутствии в жизни других интересов. Всё было как прежде.
Ева, как была, легла на давно знакомую кровать, только скинула осточертевшие за столько лет туфли где-то в коридоре и прошлась до комнаты промокшими от дождя босыми ногами; ещё в прихожей её рука было потянулась к замку, чтобы запереть входную дверь, но какая-то странная мысль промелькнула в ней, и она оставила её открытой.
За окном стемнело,