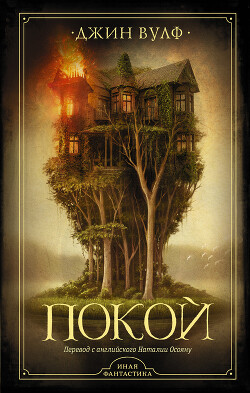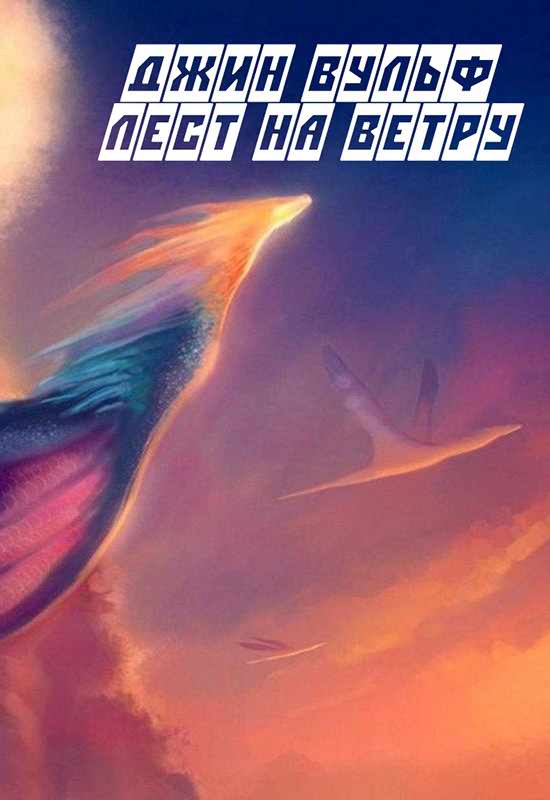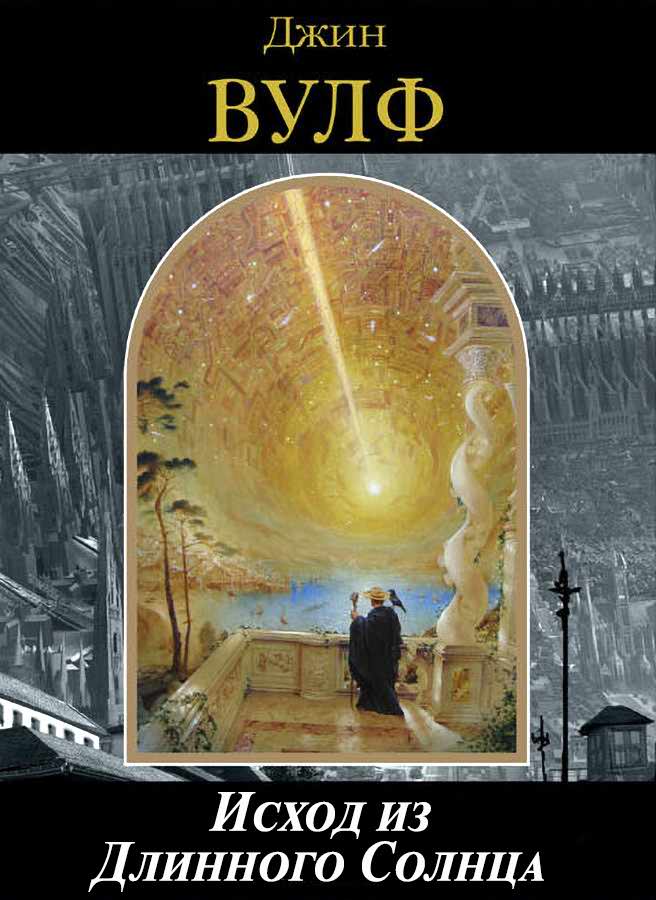Я никогда не был женат и, возможно, потому явственнее других осознаю, что брак «противоречит повседневному опыту», хотя секс – нет. Совокупления происходят каждый день: зрелые мужчины и женщины в гостиничных номерах и мотелях, в своих собственных квартирах и домах, а также в квартирах и домах, которые им не принадлежат, «вступают в половую связь»; и незрелые следуют их примеру в тех же самых местах, а также во всех других мыслимых и немыслимых закоулках – на сиденьях автомобилей и на одеялах, брошенных на землю (или без одеял), в душевых кабинах и на задних рядах театральных балконов, на сцене, в спальных мешках и, насколько я знаю, в дуплах деревьев. Но очень редко Мелисса (которая работала прошлым летом в магазине «Вулвортс», а в этом году хотела стать мажореткой [33] в школьном оркестре, но роль досталась Хизер Тримбл; Мелисса, которую я, едучи на своем вредном и строптивом старом «плимуте» на завод по утрам, обычно видел с учебниками и тетрадкой на бедре в ожидании школьного автобуса, а тот по своему обыкновению даже не думал опережать график или хотя бы ему соответствовать) и Тед (которого выпускали на поле, только когда школьная команда вела с преимуществом в четырнадцать очков; да, он пробегал спринт на четыреста сорок ярдов – ну и какой от этого толк?) покидают кирпичное ранчо отца Мелиссы и принадлежащую матери Теда квартиру номер 14, чтобы стать четвероногим, двуспинным, четырехруким (о, вас предупредили!), двуглавым Тедом-и-Лизой [34], в котором каждая неполноценная половина исчезала более или менее полностью, чтобы (хотя монстра все-таки не назовешь неразделимым) никогда не появиться вновь. Такое случается не каждый день.
А подобие истинной смерти суждено вкусить лишь раз. [35] Мы судачим о людях с сильным характером, и да, они кажутся сильными, но наступает тот из ряда вон выходящий день, когда нашему взгляду открывается пустыня, а посреди нее – женщина, и становится понятно, что вся так называемая сила была лишь бравадой, одинокой песней, пробуждающей отзвуки среди скал; и вот мы наконец-то все понимаем и решаем послушать песню, восхититься ее смелостью и мелодичностью, ждем следующей ноты – но слышим только тишину. Последнее звонкое слово перерождается в эхо, затихает, исчезает, и лишь тогда мы понимаем, что не поняли его смысла, поскольку были слишком поглощены мелодией. Мы отправляемся на поиски певицы, думая, что она стоит там же, где ее видели в последний раз. На том месте лишь кости, песок и какие-то выцветшие тряпки.
Вчера вечером, перед сном, я написал о рисунках тети Оливии и ее альбоме для вырезок – о том, что видел в детстве. Минувшей ночью, лежа в постели на краю пустого дома (я только сейчас понял, что сплю и ем – если вообще ем – только на краю; никогда раньше не задумывался об этом), я увидел сон, в котором перелез через стену. Не знаю, где я оказался и что осталось по ту сторону стены, которую я покинул. Стоял поздний вечер – кажется, зимнего дня; передо мной высилась стена футов в десять, каменная и оштукатуренная – или, возможно, это была просто грязь, которая отваливалась большими пятнами. Верхний ряд кладки был выложен черепицей и слегка выдавался вперед, затрудняя подъем.
Я спрыгнул с другой стороны и, похоже, очутился в саду. Во всяком случае, пейзаж был очень живописный, и в расположении деревьев, камней и воды ощущалось нечто красивое, но возникшее не естественным путем – впрочем, возможно, иногда природа случайным образом создает атмосферу упорядоченного беспорядка и симметричного дисбаланса. По обе стороны от меня стена удалялась, исчезая из вида, но мне показалось, что она слегка изгибалась вовнутрь, тем самым усиливая ощущение, что я вошел в некое огороженное, священное место.
Я шел по холмистой местности – возвышенности располагались ближе друг к другу и были ниже, чем казалось поначалу, – а потом наткнулся на реку из камней. В ней не было ни капли воды, только камни: гладкие, округлые, слегка приплюснутые, блестящие и холодные; кое-где проглядывали водоросли, а один раз на поверхности появился птичий трупик. Я добрался до изогнутого, горбатого пешеходного мостика и обнаружил под ним упавшего с пьедестала глиняного тролля с короткими конечностями и физиономией, одновременно свирепой и печальной. Он как будто скорчился в тени и был почти невидим. Тогда я поднялся на берег высохшей реки и пошел по тропинке, ведущей дальше от моста. По пути начал осознавать себя, чего не было раньше, и обнаружил, что снова стал молодым человеком лет двадцати пяти или около того, и это открытие оказалось настолько приятным, что я поздравил себя и подумал, продолжая идти: до чего же удивительный сон мне снится – попытаюсь не просыпаться, – вероятно, я больше не увижу этого сна, так что стоит выжать из него всю пользу без остатка.
Я не знал, сколько мне лет в состоянии бодрствования, но чувствовал на уровне более глубоком, чем «сознание», доступное во сне, что пробуждение будет ужасным, и лучше уж как можно дольше оставаться двадцатипятилетним, счастливым, идущим по извилистой песчаной тропинке под кипарисами и кедрами.
Темнело и холодало; поднялся ветер. Впереди на тропе я увидел нечто яркое – самую яркую вещь в саду, если не считать перьев на грудке мертвой птицы. Я подбежал и поймал эту штуковину: в моих руках оказался сломанный бумажный фонарь.
Теперь мы каждый день ходили в универмаг «Макафи». Если мистер Макафи не был занят, моя тетя заходила к нему в кабинет поболтать, а я свободно бродил по магазину; из-за этого воспоминания о тех визитах начинаются не с широких дверей на Мейн-стрит, а с кабинетов на третьем этаже, которые в то время были полностью обставлены мебелью из темного дерева, попирающей полы из широких и прочных досок, намертво скрепленных бесчисленными слоями блестящего лака и покрытых ковром – простеньким зеленым в наружных офисах, где за деревянными столами трудились девушки в белых блузках, и красивым восточным в обители самого мистера Макафи. Двери тоже были деревянные, словно картинные рамы с волшебным стеклом, оно окутывало туманом все, что можно было через него увидеть. Стены были обшиты панелями выше моей макушки, а дальше простиралась белая штукатурка.
За пределами кабинетов все менялось, и этот этаж – третий, с отделами игрушек и мебели – я любил больше всего. Паласы здесь были серыми, зато на всех стенах между высокими окнами висели яркие ковры, похожие на тот, что в кабинете мистера Макафи, и еще больше ковров лежали грудами высотой со стол. Между ними теснились кровати и напирали друг на друга столы, из-за них я отчетливо осознавал, сколько же в нашем суматошном мире людей, которым вскоре понадобятся эти предметы обстановки из дуба, ореха и красного дерева, все эти латунные кровати. Я заметил, что мужчины неизменно давили на матрасы ладонями, садились на стулья, часто подтягивали их к какому-нибудь столу и скрещивали ноги, чтобы проверить, удобно ли, часто переворачивали их вверх ногами и изучали, хорошо ли сделано. Женщины полировали столешницы рукавами и рассказывали клерку о своих старых столах или о столах своих матерей; они лишь мельком бросали взгляд на завитушки и безвкусную отделку кроватей, латунные ипомеи и подсолнухи.
Однако мебель была лишь декорацией на пути к игрушкам, и оттуда я уходил не сразу. Поначалу у меня всегда разбегались глаза, и, наверное, это единственное нетронутое временем воспоминание из детских лет. Даже не знаю, о чем писать. Там были солдаты, они стояли в полный рост или на коленях или лежали – каждый на отдельном клочке земли, поросшем свинцовой травой. Я постепенно собирал армию; в нее вошли не только живые и боеспособные, но также раненые и мертвые, снайперы, неистовые бойцы, атакующие врагов своей державы (а они принадлежали к нескольким державам) со штыком в руках, бойцы в противогазах, которые бросали газовые гранаты, артиллеристы и индейские разведчики – даже вождь в боевом венце из перьев, стоящий со скрещенными руками, сжимая в каждой по охотничьему ножу. Фигурки стоили по пять центов каждая; более сложные – вроде кавалериста вместе с конем – стоили десять.