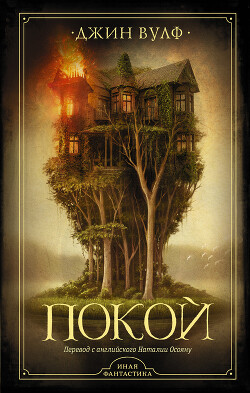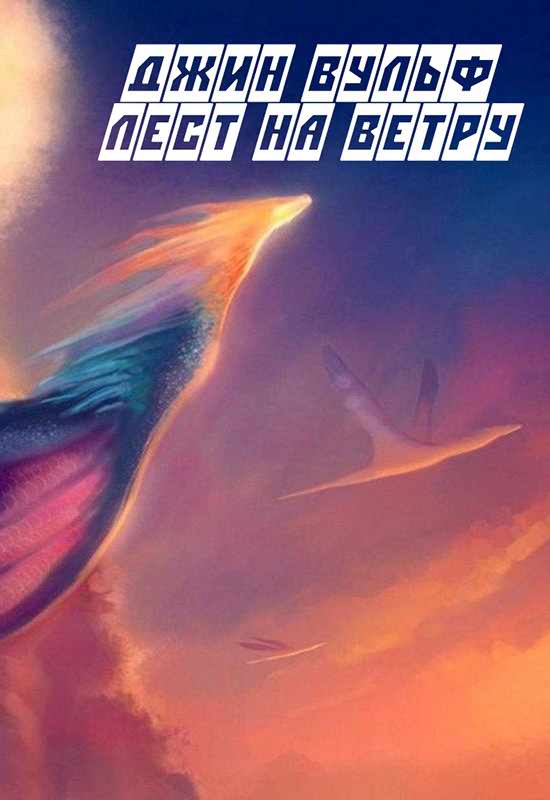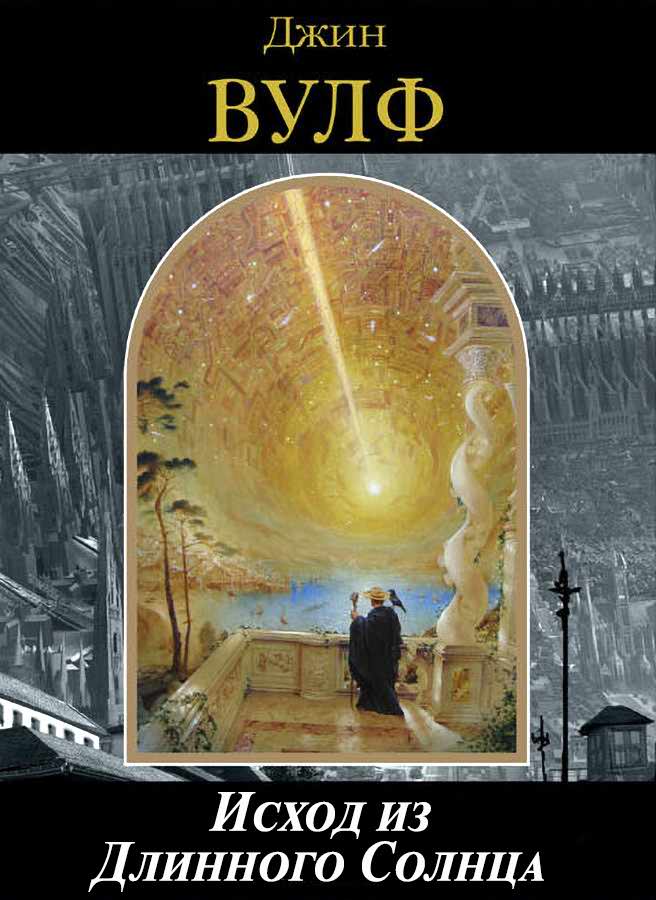Кажется, я лишь спустя некоторое время связал воздыхателя тети Оливии с универмагом «Макафи», которым он владел. Мистер Макафи был невысокого роста, плотноватого телосложения и рано начал лысеть; он хорошо одевался – в той манере, которая мне тогда нравилась, – по сравнению со Стюартом Блейном, еще одним ухажером. Думаю, он был искренне добр и от души любил музыку, всегда выглядел довольным, когда тетя играла для него, и разочарованным, когда она останавливалась. Примерно через сорок лет после того времени, о котором я пишу, когда контроль над универмагом (под другим именем) более-менее перешел ко мне в результате определенных финансовых операций со стороны компании, я провел большую часть дня, просматривая записи магазина в поисках каких-либо следов руководства Джеймса Макафи. В конце концов я раскопал несколько документов; однако от него осталось куда меньше следов, чем от его отца (Дональда Макафи, основателя) – и это притом, что он был директором относительно недавно и фактически руководил магазином в течение более длительного времени. Джеймс оказался ловким дельцом, но, вероятно, не любил подписывать бумаги и ненавидел быть в том или ином смысле на виду.
Он развлекал мою тетю прогулками и поездками в своем «студебеккере», которые часто превращались в экспедиции по поиску антиквариата, поскольку мистер Макафи был таким же страстным коллекционером антиквариата, как тетя Оливия – китайских и связанных с китайцами предметов искусства. Летними воскресными вечерами мы ходили на оркестровые концерты в парке Уоллингфорд – я был вынужден их сопровождать, пока жил с тетей, и она сидела между мистером Макафи и мной на узкой скамейке с железными ножками и зеленым деревянным сиденьем – и вежливо аплодировали в конце каждой композиции. Эстрада находилась прямо перед мемориалом Гражданской войны (серый каменный солдат в фуражке и мешковатой униформе северянина стоял «вольно» с винтовкой Спрингфилда в руках, словно рабочий возле раскопа, у пропасти времени, на ее дальнем краю располагался помост для музыкантов, а на ближнем – его собственный постамент, на котором были высечены имена погибших горожан, а не, как я полагал несколькими годами ранее, списки убитых этим воином), а сам оркестр был подразделением волонтерской пожарной бригады.
Джин Вульф. ПОКОЙ
Там не было ни правил, ни контроля, но рассадка строго регламентировалась: ближайшие к эстраде места занимали те, кто был лучше всего одет. Самые плохо одетые, нищие дети и несколько городских бездельников сидели не в парке, а на бордюре с противоположной стороны Мейн-стрит. Поскольку в воскресенье вечером даже на главной улице не было никакого движения, они слышали музыку так же отчетливо, как и мы (мистер Макафи и моя тетя Оливия всегда сидели в первом ряду), и упускали только захватывающий вид тромбониста крупным планом.
История с китайским яйцом началась, кажется, недели через три после того, как я поселился у тети: она отправила меня спать, а спустя два часа или около того прервала мое чтение, стремительно ворвавшись в комнату.
– Ден! – воскликнула она. – Джимми Макафи только что ушел.
Я спросил, можно ли мне покинуть постель.
– Не говори глупостей, тебе давно полагается спать. Но вот какая новость – у меня будет студия! Я стану давать лекции и уроки! Все в магазине Джимми. Мы можем съездить туда завтра и осмотреть место.
Кажется, в тот вечер я вообще не понимал – так как мне было все равно, – что это за студия и какие уроки будет давать тетя. Как только она вышла из комнаты, я вернулся к сказке о принцессе, чья одинокая башня стояла на омытой морем скале, далеко от какой-либо земли. По приказу отца-короля к ней каждый день в лодке приплывали слуги; рисунок на соответствующей странице демонстрировал, что у суденышка были весла и крошечная мачта с одиноким квадратным парусом, на котором красовался герб королевского семейства. (Меня радовало то, как парус стремился компенсировать свои миниатюрные размеры упорным трудом. Он раздувался на зависть любой жрице Титании [28], хотя ветер – если верить вымпелу в футе над парусом – дул вдоль полотнища, а не сзади.) Похоже, слугам приходилось плыть очень долго – на иллюстрации за кормой кораблика не было видно земли, – но они не жалели сил, поскольку были очень верны своей прекрасной принцессе.
По ночам принцесса оставалась совсем одна в своей опоясанной морем башне.
Все это представляло собой (а как иначе) результат пророчества, сделанного у постели королевы-матери неким согбенным и косматым старцем-колдуном, приковылявшим из ночной мглы в тот самый миг, когда торжества по случаю рождения принцессы были в разгаре. Колдун, который одевался в волчьи шкуры и, по слухам, питался исключительно чаем, пропел следующее:
Сей деве, что пришла в мир бренный,
Отмерен долгий срок смиренный;
Предметом станет вожделенья,
Хоть не дарованы владенья;
Море, твердь и эфир
Явятся на пир,
Но пламя – ее кумир.
Из земли состоянье свое извлечет
И отца-короля зять во всем превзойдет.
Король, разумеется, не имел ничего против зятя-богатея, чего нельзя было сказать про идею о том, что тот его превзойдет, – вот вам и башня на скале. Весть о заточенной девушке распространилась по городам и весям, что было неизбежно – и, несомненно, многим пришло в голову, что, пусть нельзя объяснить, о каком «пламени» речь в предсказании – после свадьбы, понятное дело, оно может означать многое, – ее избранник точно станет королем (или даже лучше) и весьма разбогатеет. Однако в радиусе нескольких миль от скалы было негде бросить якорь, и почти все, кто пытался добраться до несчастной узницы (звали ее Элайя [29]), утонули.
Наконец (я как раз начал клевать носом) на сцене появился первый серьезный воздыхатель. Он был младшим сыном короля гномов, чрезвычайно знатным и таким красивым, что удостоился собственной иллюстрации: на ней он в довольно вальяжной позе стоял у двери башни – за миг до того он прыгнул туда с кормы удаляющейся королевской лодки, где прятался в трюме в облике мыши. У него были меч и щит – с большим шипом в центре и с делениями по краю, как на циферблате солнечных часов. Действительно ли он вошел через эту дверь или был вынужден из уважения к девичьей скромности подняться на башню и проникнуть внутрь через окно, я уже не помню. Зато припоминаю, что принцесса поставила перед ним ряд чрезвычайно трудных задач – например, велела добыть звон колокола со дна моря, – и он все выполнил с поразительной, но приятной для меня легкостью. Со временем, конечно, известие о подвигах молодого человека дошло до короля, и он приплыл к дочери с визитом. Принцесса оказалась одна, и, когда король-отец спросил, где же этот неподражаемый паладин, младший сын короля гномов, она ответила лишь одно: его поцелуи слишком сильно отдавали свежевспаханной землей.
Второй поклонник – я ожидал, что это будет житель морских глубин, но вышло совсем по-другому – оказался предприимчивым молодым купцом, настолько сведущим в морском деле, что ему удалось подвести свой корабль к самому краю скалы (как было показано на иллюстрации) и перепрыгнуть на нее, не замочив подошвы. Сверхъестественными способностями он не обладал, роста был (опять же, судя по иллюстрации) довольно невысокого, но эти недостатки возмещал светлыми кудрями и поразительной хитростью. По настоянию принцессы он отнял вола у волка, оставив хищнику всего лишь одну «к», потом обменял вола на тень великана и с помощью нее вверг жителей прибрежного города в такой ужас, что они провозгласили его королем, после чего вернулся к великану и выменял тень (та подорожала, побывав во владении прославленного завоевателя) на волшебную птицу из рубинов и аметистов, которую и вручил принцессе. От песни этой птицы успокаивалось бурное море, и любой слушатель был бы ею очарован – впрочем, чтобы услышать прекрасные звуки, владельцу надлежало выпустить певунью на свободу, как принцесса и поступила, а потом запела сама и приманила существо обратно в клетку. Когда король-отец спросил, что случилось с предприимчивым молодым купцом, принцесса ответила, что отослала его прочь: тяжелый кошель у него на поясе причинял ей боль всякий раз, когда они обнимались.