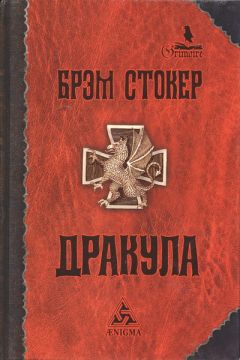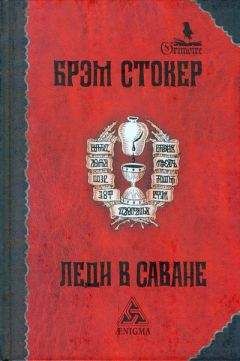Автор древнерусского «Сказания о Дракуле-воеводе» прямо говорит, что «именем Дракула валашским языком, а нашим — Диавол. Так зломудр — как по имени, так и житие его». Русский книжник допускает ошибку, впрочем, не принципиальную. По-румынски «дьявол» — это «дракул» (dracul), «Дракула» (Draculea) же — «сын дьявола».
Прозвище Дракул, т. е. «дьявол», получил отец Влада. Историки утверждают, что связь с нечистой силой в данном случае ни при чем. Отец Дракулы вступил при дворе Сигизмунда Люксембурга в элитарный орден Дракона, созданный для борьбы с «неверными», главным образом — с турками. Этот орден, его элитарный характер и герб описаны в хронике Э. Виндеке, современника и биографа Сигизмунда Люксембурга.[1] Став господарем, Дракул по-прежнему относился к своим рыцарским обязанностям настолько серьезно, что повелел изобразить дракона — элемент орденской символики — даже на валашских монетах (а ведь изображение на монетах считалось сакральным). В результате рыцарственный воевода якобы заработал у невежественных соотечественников свое прозвище: «Дракул» означает по-румынски не только «дьявол», но и «дракон». В таком случае имя Дракула можно понимать как «сын человека по прозвищу Дьявол». Византийский хронист Халкокондил именует «Дракулой» и Влада, и его брата Раду Красивого,[2] а в сербской летописи повествуется о том, что турецкий султан ходил на «Дракоулика Влада»[3] — Влада Дракуловича.
Пусть так. Но те же историки осторожно добавляют, что, возможно, подданные понимали прозвище господаря и в первом смысле. Ведь если прозвище Дьявол, неочевидное для православного государя, закрепилось, значит, о властителе сложилось соответствующее представление.
Это — об отце, то же самое можно сказать о сыне. Имя Дракула в равной мере значит «сын человека по прозвищу Дракул» и «приверженец Дьявола, следующий путями тьмы». Такого рода указания обыкновенно не относятся к «нравственному облику» — чаще имеется в виду непосредственная, «реальная» связь с нечистой силой.
С точки зрения «закодированной» в древнерусском «Сказании» тайны особый интерес представляет эпитет «зломудр». Это краткое прилагательное принадлежит к разряду «потенциальных слов»: несмотря на прозрачность смысла и структуры, оно изобретено автором «Сказания», а потому на современный русский язык его не столько переводят, сколько передают перифрастическим словосочетанием — «жесток и мудр». Логика словотворчества, вероятно, основана здесь на том, что слово «зломудрый» напоминает слово «злохитрый», которое часто встречается в древнерусских текстах: для «злохитрого» «зломудрый» — как бы превосходная степень.
В порядке «далековатой» компаративистской параллели уместно напомнить, что академик А. И. Веселовский — знаток и переводчик текстов Боккаччо — преодолевал сходные трудности («Декамерон», день VII, новелла 8): словосочетание «крайне злохитростная» (превосходная степень!) он счел единственно подходящим эквивалентом непереводимого итальянского прилагательного «maliziosa»,[4] восходящего к латинскому «malignus» (ср. также во французском, английском и др.), — слову, которое до сих пор не подлежит переводу на «пословном» уровне.
Симптоматично, что Брэм Стокер использует слово «malice» для описания Дракулы и его последователей и что переводчики испытывают здесь непреодолимые затруднения. Так, в главе IV Гаркер, обнаружив Дракулу в гробу, видит его «вздутое, окровавленное, злорадное (with a grin of malice) лицо», а в главе XVI, столкнувшись с вампирессой Люси Вестенра, ее бывший возлюбленный признается: «Никогда в жизни мне не приходилось видеть такого исполненного инфернальной злобы лица (never did I see such baffled malice on a face). Надеюсь, никто из смертных больше не увидит ничего подобного. Нежные краски превратились в багрово-синие, глаза метали искры дьявольского пламени, брови изогнулись, будто змеи Медузы Горгоны, а когда-то очаровательный рот, измазанный кровью, напоминал зияющий квадрат, как на греческих и японских масках».
Отсюда соблазнительно гипотетически предположить, что и русский книжник XV в., прибегая к неологизму «зломудрый», так же стремился перевести слово «malignus» (ср. румынское прилагательное «malitios»). Контекстуальные реализации этого рокового слова подразумевают компоненты значения, которые принципиально важны для реконструкции представлений о Дракуле его современников. А именно, лукавый, способный на злые выходки, затем — дьявольский, сатанинский (см. «злой дух», т. е. собственно «Диаволъ») и, наконец, колкий, остроумный.[5] И в самом деле, рассказы о жизни Дракулы изобилуют исполненными черного юмора анекдотами — его жестокими деяниями и мрачно-ироническими афоризмами, т. е. эпитет «зломудръ» — если считать его переводом — эмбрионально содержит в себе основные идеи и композицию русского «Сказания о Дракуле».
Юмор в Средние века находился под подозрением. Книжники имели обыкновение напоминать, что Христос никогда не смеялся. Следовательно, смех — атрибут и символ понятно чей. Так что образ Дракулы выстроен вполне логично. Кстати, отвлекаясь от богословской аргументации, смех действительно излучает некую таинственную двусмысленность. Ведь смеясь, человек не контролирует себя, словно бы превращаясь в одержимого. Забавно, что самый «раздумчивый» из героев Стокера — профессор Ван Хелсинг — излагает в романе продуманную философию смеха. «Смех, который стучит в твою дверь и спрашивает: „Можно войти?“ — не подлинный смех. Нет! Истинный Смех — король и приходит туда и тогда, куда и когда ему вздумается. Он не выбирает удобное время, а лишь сообщает: „Я здесь“».
Возвращаясь же к валашскому острослову-чернокнижнику, стоит обратить внимание на то, что многие дракулические предания повествуют о кладах, спрятанных воеводой. У современного читателя подобные эпизоды хрестоматийно вызывают в памяти ассоциации с пиратами и разбойниками. Но согласно фольклорным представлениям, искусство устраивать клады свидетельствует о колдовской природе разбойников, которые «используют волшебные предметы, едят человеческое мясо, умеют превращаться в зверей и птиц, им ведомы „запретные слова“, которым повинуются люди, животные и предметы… Фольклорные грабители не только умеют грабить, они знают, как хранить награбленное. Такое знание доступно не всякому смертному и, судя по фольклорным текстам, есть знание вполне волшебное».[6]«По народному поверью, — поясняет В. И. Даль слово „клад“, — клады кладутся с зароком и даются тому только, кто исполнит зарок». С «демонической» точки зрения достойно внимания, что, согласно румынским преданиям, одной из причин «неупокоенности» мертвеца бывают спрятанные им при жизни сокровища.[7]