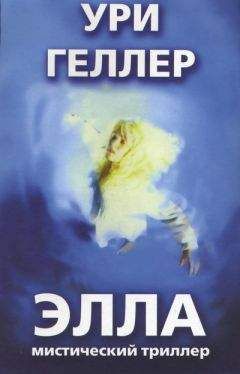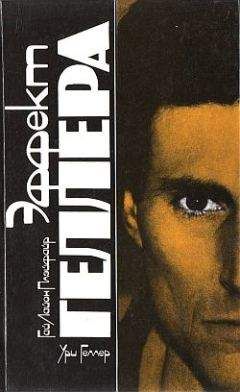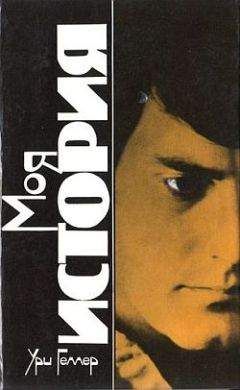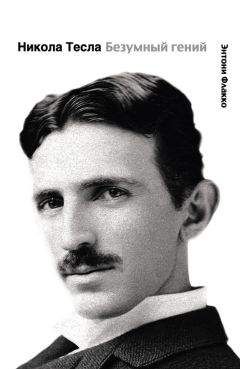Кен весь подался вперед. Его широкие плечи, казалось, еще раздулись от злости.
— Эй-лиш, — поправил он с недоброй усмешкой. — Ее зовут Эйлиш.
Его тень нависла над столом. Это имя — Эйлиш — было его последним словом в споре, за ним оно и останется. Он не станет больше ничего обсуждать.
Джульетта кивнула. Ее ногти, без следа маникюра, продолжали теребить белую скатерть.
— Элла! — Кен Уоллис откинулся на спинку стула и уставился на дочь. — Мать же велела тебе задуть свечи!
Один тонкий розовый столбик на торте продолжал гореть.
— Я задула, — пробормотала Элла.
Отец ткнул в сторону свечки пальцем.
— А это тогда что такое?
Элла встала и попыталась задуть последнюю свечку. Но пламя снова вспыхнуло.
— Это что, свечка-розыгрыш? — встревоженно спросила Джульетта. Она ничего не понимала в розыгрышах.
— Так значит, ты тратишь свои карманные денежки на дурацкие шутки, Фрэнк? — громыхнул отец. Фрэнк выпрямился на стуле, отрицательно мотая головой. Свечка была не из шуточного набора.
Элла вновь попыталась задуть огонек. Фитиль одно мгновение чадил, но потом опять разгорелся.
Кен поплевал на пальцы и, загасив пламя, вытащил хрупкий стерженек из держателя и смял его в ладони.
— Пшик! — сказал он.
Джульетта и Элла опустили глаза. Молчание нарушил Фрэнк:
— Пап, а можно мне еще кусочек торта?
— Ты свою комнату убрал? Ну, тогда…
Фрэнк еще и ножом не успел двинуть, как торт приземлился глазурью вниз около стула Джульетты. От смачного шлепка даже стол сотрясся (торт упал на пол, и от этого сотрясся СТОЛ? Как-то нереально).
— Элла! Ты что это себе позволяешь?! — Отец ухватил ее, как котенка, за кружевной воротник, и стащил со стула.
— О Боже! Только гляньте, какой бедлам! — вскрикнула Джульетта.
— Не могу поверить, что ты посмела такое устроить! — загремел Кен.
— Я ничего не делала, — в ужасе запротестовала Элла, покачиваясь в зажатом отцовским кулаком платье. Она знала, что если уж отец за нее взялся, то лучше не дергаться.
— Не лги мне! Я видел, как ты это сделала.
— Я его и пальцем не тронула! — взмолилась она.
— Не смей, — тут он посильнее тряхнул ее, — не смей мне врать, девочка моя, даже не пытайся — только хуже сделаешь!
— Господи, это пятно никогда не ототрется!
— Не поминай имя Господа нашего всуе, женщина, — прикрикнул Кен на жену. Бисквит и начинка из джема так впитались в полиэстеровый ворс ковра, как будто их туда втаптывали сапогами. — Элла сама всё отчистит. Правда, моя девочка?
— Да, папа, да!
— Пап, — встрял Фрэнк, осмелившийся повиснуть на свободной руке отца. — Элла его не трогала!
— Да-а? Так кто же тогда его бросил? Уж не ты ли?
— Не, чес-слово, он просто сам упал.
— Не вступайся за нее, Фрэнк, она того не стоит. Торт стоял на середине стола. Она нарочно сбросила его на пол.
— Я не делала этого, папочка, честно-честно!
— Я САМ ВИДЕЛ!
Но ничего он на самом деле не видел. На одно мгновение торт завис, перевернувшись, у края стола, а потом невидимая рука швырнула его на пол, да так, что капли крема и джема забрызгали стены.
— Надо бы заставить тебя съесть его. Стоя на карачках. До последней крошки.
Пальцы ног Эллы едва касались пола, она кожей чувствовала жар нависшего над ней отцовского лица.
— Ну что, будешь еще врать мне?
— Нет.
— Ты сбросила торт?
— Да.
— Зачем?
— Не знаю…
— Чтоб все отчистила! — он отпихнул ее. И, ткнув пальцем в сторону Фрэнка, добавил: «Не вздумай ей помогать. И если хоть одна крошка останется, когда я вернусь… хотя бы крошка…»
Он шарахнул дверью, выходя из комнаты, а потом хлопнула и входная дверь. Девочка, опустившись на колени возле материнского стула, стала собирать розовые комки на тарелку.
Элла была маленького роста — для своего возраста. Ее длинные платиновые волосы сбегали водопадом по спине. Надо лбом они были пострижены в короткую челку, обрамляя ее бледное лицо, как шлем. Отец уже начал настаивать, чтобы она завязывала их сзади или укоротила до плеч. Ходить с такими длинными распущенными волосами «не подобало». Чистое тщеславие. «Она больше не ребенок, объявил он — а тщеславная женщина — истинное зло».
Элла не ощущала себя истинным злом, но действительно мыла голову каждый вечер, а по утрам и вечерам расчесывала волосы щеткой. Монотонное движение руки по текучему шелку волос помогало избавиться от всех чувств и мыслей.
Вечером своего дня рождения она сидела на краешке кровати. Ковер был оттерт начисто, до последнего крошечного пятнышка. В соседней комнате спал Фрэнк. Мать была внизу: до Эллы неразборчиво долетало эхо девятичасовых новостей.
При слабом свете, лившемся в узкую щелочку приоткрытой двери в спальню, Элла все расчесывала и расчесывала волосы, пока у нее не заболела рука. Ей нравилось слегка тянущее ощущение на коже головы, и струящееся прикосновение волос к тыльной стороне ладони, когда она принималась за очередную прядь.
Полоска света с лестничной площадки падала как раз на стену. Во время урока рисования в школе она нарисовала ангела, вырезала его, и приклеила к обоям «Блю-таком».[1] У ангела были светлые волосы, ниспадавшие на белые крылья, полураскрытые и касавшиеся своими кончиками сандалий. Элле казалось, что так мог выглядеть архангел Гавриил, когда явился Марии.
Но своему отцу она об этом не сказала, когда он заметил ангела на стене.
— Это что такое? — спросил он, нагрянув в ее комнату с очередным внезапным «рейдом за чистоту».
— Я нарисовала это в школе.
— Так вот чему они тебя учат? Богохульствовать?! Ты разве не знаешь Вторую заповедь?
— «Не делай себе идола и какого подобия…» — забормотала Элла.
— Никакого подобия! Бог говорит на правильном английском, не то что ты.
— Прости, папа. Но ведь это всего лишь рисунок, а без него стена кажется такой голой… — она всегда говорила с отцом так тихо, что он едва ее слышал. — У всех моих друзей на стенах висят плакаты, но я знаю, что ты этого не одобряешь.
— Никакого идола, — повторил Кен, — и никакого подобия тех, кто обитает на небесах.
— Да.
— Ты знала это, и все-таки продолжала рисовать…
Он покачал головой, и вышел из комнаты. Но снять картинку не велел.
Ангел пришел к Элле во сне. Сегодня, в день ее рождения, это случилось не в первый раз, но никогда еще этот сон не пугал ее так сильно. Он повторялся уже несколько недель и всегда начинался с того, что она оказывалась под водой. Элла билась, стремясь к точке света наверху, из ее губ и ноздрей вырывались пузырьки воздуха, а от давления на уши кружилась голова. Она брыкалась и извивалась, но чья-то сильная рука сжимала ее лодыжку и пальцы, казалось, впились прямо в кость. Она тянулась и тянулась вверх, к свету, и вдруг другая рука поймала ее за кисть. Это была маленькая ручка, слабая, как у младенца, отчаянно пытавшаяся вытянуть Эллу наверх. По сравнению с неумолимой хваткой, сковавшей ее лодыжку, эти немощные попытки казались жалкими и бессильными.