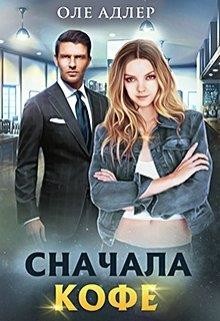он снова был молодой, полный сил и энергии. Его подмигивание – особое, заговорщицкое, которое было в ходу только между нами. Его особая походка. Добрые и мудрые глаза. Его немного скрипучий, но такой родной голос. Вот он смотрит, чтобы я не ударил себе по пальцам тяжелым молотком. Вот он подбрасывает меня в воздух и показывает мне три пальца. Три пальца, потому что мне тогда исполнилось…
Я убрал телефон в карман и уставился в темное небо.
Сверху на землю, перемешиваясь с дождем и упрямо сопротивляясь ветру, крупными комьями падал первый снег.
Зима
Через неделю нас позвали на похороны.
Помню, я сидел на кухне, жевал пластиковые макароны и пялился в окно: начинало темнеть, всюду был грязный снег, улица выглядела как те картинки про легкие курильщика, которые нам показывали на уроке биологии. В комнате раздался звонок, мама проснулась и взяла трубку. Она отвечала редко и очень тихо, потом замолчала. Через полчаса она появилась на кухне, но оставила свет выключенным, погладила меня по голове, разрешила выбросить остатки макарон, после чего надолго заперлась в ванной. Там сильно зашумел включенный кран.
Часа через два пришел папа. Они долго о чем-то говорили, закрывшись в комнате, но мне удалось подслушать часть их разговора:
– Она ведь сама позвонила Мишке… – Это был папин голос.
– Ребенку нечего делать на похоронах, – тихо ответила мама.
– Понимаю. Но они были очень близки. И раз он все знает, будет глупо скрывать…
– Нет. Скажем, что заболел. А мама все напутала…
Я громко застучал кулаками по двери и крикнул:
– Я тоже пойду к дедушке!
После этого у них не оставалось иного варианта.
Сначала мы приехали в церковь. В той деревне, в которой жили бабушка с дедушкой, ее не было, поэтому пришлось ехать в соседнюю. Церковь была оборудована в бывшем здании завода и снаружи почему-то походила на древний особняк или даже замок. Было много народу: родственники, друзья, соседи. Некоторые были мне знакомы, других я видел впервые. Когда я заметил бабушку, то сперва не узнал ее среди других старых женщин: настолько сильно она изменилась. Лицо побледнело, потускнело и стало каким-то безжизненным, будто было высечено из камня. Лишь глаза печально глядели перед собой. Я протолкался сквозь толпу и прижался к ней. Она, ничего не говоря, погладила меня по голове.
Вскоре нас впустили внутрь. Все столпились около гроба, который почему-то был закрыт, и я еще тогда подумал – вдруг это какой-то розыгрыш, и дедушка на самом деле жив? Сейчас поедем на дачу, и окажется, что он все это время был там, выстругивал новые наличники или чинил постоянно разваливающиеся стулья… Но, кажется, все было взаправду. Я почти ничего не видел из-за спин взрослых, а вперед меня не хотели пропускать, поэтому я сосредоточился на церкви.
Мы были в огромном зале, потолок терялся где-то высоко над головами, и здесь было совсем не так, как в городских церквях: никакого золота, дорогих тканей и множества украшенных икон. Была лишь одна икона, она висела на стене перед алтарем, все остальные стены пустовали, и эта аскетичность наводила куда больше трепета, чем украшенные залы. Пение священника, ни одно слово из которого я не мог разобрать, погрузило всех в размышления и еще долго гуляло под сводами здания.
Когда пришло время, всем раздали свечки и разрешили подойти к гробу – как мне сказали, чтобы попрощаться. Это было странным: какой смысл прощаться сейчас, когда тебе не могут ответить? Все равно, что разговаривать со спящим. Тем не менее, каждый прошел мимо гроба с дедушкой; многие плакали. Я до сих пор не смог привыкнуть к мысли, что дедушки больше нет, поэтому, проходя мимо его нового блестящего дома, кажется, так и не испытал никаких эмоций. Украдкой я поглядывал на тех, кто был после меня: мама совсем расстроилась и выбежала на улицу вместе с папой; соседи плакали; двоюродный брат дедушки, дедушка Антон, которого я увидел второй раз в жизни, долго стоял около гроба и что-то шептал, на его лице замерла грустная улыбка; бабушка же, напротив, около гроба почти не задержалась, прошла мимо и с тем же каменным лицом вернулась назад.
Когда все вышли на улицу, я ненадолго потерялся и блуждал среди людей, невольно слыша отрывки их разговоров:
– Почему в закрытом гробе-то? – интересовалась одна древняя старушка.
– Медведь, Ивановна… – вздохнул ее собеседник, дядя Гриша из деревни. – Совсем плохо теперь выглядит…
– Хороший священник… Надо будет его и на свои похороны позвать…
– Эх, не повезло ему, конечно… Еще жить да жить…
– Вы до города поедете? Ой, а подвезете меня?
– Упокой его Господь…
– Главное, что не мучился…
Я зажал руками уши и протолкался к родителям.
Около церкви стоял маленький автобус, в который четверо грузчиков стали загружать гроб. Когда наступило время приподнять его, один из грузчиков оступился, и гроб покатился на землю. Раздался треск, и крышка ненадолго приоткрылась. Все возмущенно зашумели и стали отворачиваться. Я подбежал, чтобы взглянуть на дедушку в последний раз, и прежде, чем родители оттащили меня, прежде, чем испуганные грузчики поставили крышку на место, смог увидеть его лицо совсем близко.
На миг меня кольнула грусть: теперь это лицо всегда будет таким спокойным и безжизненным – кажется, только теперь я наконец понял всю серьезность момента. Но была странная деталь. Лицо не было разодрано медведем, как все убеждали меня и друг друга. Оно было нетронутым. Но глаза – они были распахнуты. И в этих глазах не было тех, дедушкиных глаз. В них плескалась бесконечная звездная тьма.
Родители оттащили меня, и перед тем, как вокруг дедушки сомкнулась толпа, я еще успел увидеть грузчиков, спешно возвращавших все на свои места. Почему врали про медведя, про истерзанное лицо? И что у дедушки с глазами? Казалось, я когда-то уже видел такие глаза, то ли во сне, то ли в телевизоре…
– Не думай об этом, Мишка, – ответил кто-то, в ком я узнал папу, и я вдруг понял, что все это время говорил вслух. Мама уже села в машину и не могла слышать то, что он мне говорил. Папа присел на корточки, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с моим, и ласково сказал: – Как это ни грустно, но все мы умираем. По разным причинам. Так уж мы устроены, к сожалению… Я знаю, ты очень сильно любишь дедушку…
– Это правда… – сказал я тихо, и на глаза вдруг навернулись горячие слезы. Только сейчас, после этих слов, я, кажется, понял, что дедушку уже не вернуть, что это не розыгрыш, и сегодня я видел его в последний раз. Человек с папиным голосом обнял меня, но раскаленные слезы падали на