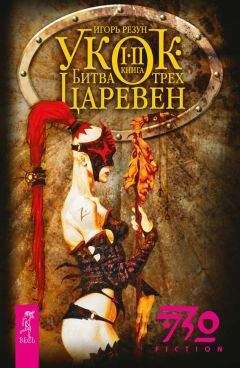Собрание загомонило.
— А вот пусть тогда к нам приходит, шатер ставит и живет с общиной! — отозвалась какая-то старая цыганка.
Больше ему сказать было нечего, да и не знал он, что сказать. А Мирикла, скромно стоящая позади, у смолистого ствола старой сосны, молчала: перебивать вайду, да еще, не будучи принятой, нельзя! Тут Бено внезапно ощутил на спине необыкновенное жжение и понял, что ниже поясницы его жжет точка, в которой скрестились взгляды Мириклы и этой маленькой чертовки — Патрины. Бено закашлялся, полез рукой за пазуху и начал остервенело чесаться, не в силах унять зуд. Затем опомнился — смешно выглядит — и махнул рукой, буркнул: мол, пусть сама скажет.
Мирикла отделилась от сосны. Бено стоял перед этим на расчищенном участке черной вытоптанной земли, и новенькая ступила туда, в этот круг, причем по пути необъяснимо легко вышагнула из своих ботиночек, оставшись боса, в одних у щиколотки обрезанных колготах. Кто-то понял и ахнул: так, одним движением, новенькая показала им, что не боится отбросить городской лоск свой и что пришла она к ним с открытой душой.
— Люди! — проговорила она, причем на том же сервитском диалекте, что Бено; говорила чисто, только чуть растягивая слова, как все крымчане. — Меня зовут Мирикла. Вы меня видите, какая я есть. Без зла я к вам пришла и без мыслей поживиться за ваш счет. Хочется мне жить рядом с вами, помогать вам, быть нужной общине… но я должна быть одна. Я воспитываю девочку. Патрину. У нее особое назначение… Я должна выполнить его, так как это воля моего мужа, Георгия Антанадиса, и Бога.
И вот так, дерзко поставив имя супруга на первое место, она закончила свою речь, а потом поклонилась низко-низко — до самых пальцев ног, вцепившихся в эту землю.
Мириклу приняли. Более того, выступая в сэндо по нескольким малозначительным делам, она показала себя умной и мудрой, и ее вскоре все так же уважительно называли «биби». Иногда она приезжала в табор с Патриной. Девчонка, живая и не ничего боявшаяся, быстро выучила сервитский диалект и носилась с ребятишками помладше по табору. Попрошайничество в том убогом виде, в котором оно практикуется на улицах российских городов, было под страхом буквальной смерти запрещено Бено. Девушки работали с женщинами на изготовлении парчовой ткани и сувениров (табор получал мелкие заказы от православной епархии и местного общества «Культурный Диалог»), а мальчишки вовсю трудились на автомойках, в шиномонтажке и на СТО.
Однако дети вылазки делали все равно. Для них это было не тем тупым попрошайничеством, которым занимаются профессиональные сообщества чумазых маленьких нищих на вокзалах и рынках, выдающих себя за цыганят, а неким спортом: повезет — не повезет, сумеет убедить — не сумеет. Только один раз в такую экспедицию взяли Патрину. Худая, смуглая, с черными от круглосуточной беготни по земле ногами — она идеально подходила на роль просительницы. Ребята вернулись с круглыми глазами: Патрине надарили целый мешочек денег, среди которых попадались и американские купюры, плюс два золотых колечка и какие-то богатые на вид часы. Более того, стоило девчонке упереться своими бездонными глазищами в спину кого-нибудь из прохожих, как у того словно сами собой лезли из карманов купюры, монеты, и он останавливался, начинал искать глазами человека, которому мог бы это все отдать.
Но… Патрина этому была совсем не рада. С ней случилась истерика. Она убежала на берег шлюзового канала, долго плакала там, забившись в развалы бетонных плит. А после наотрез отказалась когда-либо участвовать в подобных предприятиях. Но это не очень уронило ее авторитет в глазах двенадцатилетних пацанят: они уже убедились, что Патрина дерется, как кошка. И если бы они знали, то сравнили бы ее удар с ударом кенгуру: крепкий сухой кулак Патрины с первого раза точно и метко разбивал любой задиристый нос. Цыган же постарше, для которых Патрина была еще все-таки девчонкой, она сразила раз и навсегда, когда, как-то оказавшись у вечернего костра, смело взяла оставленную кем-то гитару и спела. Спела не привычное, цыганское, которое знали и любили в общине, но уже слышали по сотне раз, а какие-то тревожащие душу, незнакомые слова. И хотя все понимали, о чем поется, тем не менее, романс щипал нутро совершенно нездешней грустью, какой-то неизведанной романтикой и горечью.
Она пела голосом хрустальным, чистым, рассыпающимся в ночном небе на тысячи искорок, как и сам костер. Жар от костра приклеил завиточек черных кудрей на вспотевший лоб; с трогательно угловатого, но уже нежно-оливкового плеча сползла бретелька сарафана, в котором она чаще всего ходила; на голой бронзе ступней, протянутых к огню, скульптурных и невесомых, трепетал багровый отблеск.
Устав от гулянок и пьянок,
Гостиных и карт по ночам,
Гусары влюблялись в цыганок,
И старенький поп их венчал!
Дворянки в капотах широких
Навагу едали с ножа;
Но староста знал, что оброка
Не даст воровать госпожа.
И слушал майор в кабинете,
Пуская дымок сквозь усы,
Как нынче цыганские дети
Барчатам разбили носы!
Он знал, что когда он отдышит,
И сляжет, и встретит свой час:
Цыганка подымет мальчишек,
И в корпус кадетский отдаст.
Но вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель во тьму —
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.
Под гром севастопольской пушки
Вручал старшина Пантелей
Мальчонке от смуглой старушки
Иконку да триста рублей.
Старушка в наколке нелепой
По дому бродила с клюкой,
Покуда в кладбищенском склепе
Не клали ее на покой.
А сыну глядела Россия,
Ночная метель и гроза
В немного косые, шальные,
С цыганским отливом глаза!
Доныне в усадебке старой
Остались следы этих лет:
С малиновым бантом гитара
И в рамке отвальный портрет.
В цыганкиных правнуках слабых
Тот пламень дотлел и погас…
Но кровь наших диких прабабок
Нам бросится в щеки подчас!
Она закончила петь, оборвался голос небесного патефона. У костра сидели в молчании; цыгане — не те люди, которые будут оживленно хлопать. Каждый пропустил песню сквозь душу, и если чего не понял умом, то прекрасно ощутил сердцем. Лишь только беспокойный Миха, один из младших сыновей Бено, ворочался у костра, а потом спросил баском:
— А капот — это что? И почему широкий? Я вот знаю, от «тойоты-карины» капот…
На него шикнули. Патрина дернула голым плечом, тут же торопливо поправила бретельку, коротко пояснила, что капот — такое старинное платье. Но Миха не отставал:
— А ты откуда знаешь?
— Мне Мирикла сказала. Она эту песню пела.
— А что, твоя биби так много знает?
— Много!
— А она откуда ее знает? Песню?
— Мирикла говорила, что мой дедушка ее пел. А он был… — Патрина вдруг подняла пылающее лицо и, словно не видя окружающих, проговорила странным голосом: — а он был штабс-капитан.
Миха засмеялся, но его снова одернули, теперь уже дав внушительного тычка. Он умолк.
Больше, правда, Патрина никогда не пела. Но с тех пор и она, и Мирикла стали все реже и реже появляться в общине. Мирикла передала крупную сумму Бено в американских деньгах, на которую тот выкупил землю на той стороне Оби и начал вести переговоры о создании Культурного Центра «Цыганское кочевье».
А Патрина с Мириклой стали почти недосягаемы.
Какой-то ухарь скупил участки по обе стороны башенной стены, и теперь каждый день сюда подъезжали рычащие бензовозы, трейлеры, рефрижераторы — мастер наладился чинить тяжелую технику. Бено туда сунулся, но его быстро отшили, причем так, что вайда ходил с темным, злым лицом все три дня. Потом зашел к Мирикле и поделился с ней странным наблюдением: хозяин ремонтирует «МАЗы» и немецкие «МАНы» явно себе в убыток, Бено в компанию брать не хочет и чем живет — непонятно. Может, деньги отмывает? Как на грех, заскочила в дом Патрина — голоногая, в обрезанных шортах и одном кружевном лифчике — как ходила на речку купаться. Увидев Бено, с визгом вылетела за дверь, но тот все равно покраснел. И выговорил Мирикле. Женщина улыбнулась, почтительно склонила перед вайда голову с блеснувшими монисто и попросила:
— Мой дорогой Бено, давай я тебе что-то покажу… одну бумагу.
Они удалились на второй этаж, разговаривали около получаса, и назад Бено спустился какой-то радостно-недоуменный, а перед уходом даже поцеловал руку Мирикле — по-европейски.
Тем не менее, мимо стальных ворот пролегла дорога, засыпанная щебнем и брошенными туда листами толя; по ней тяжело переваливались грузовики. Мирикла с Патриной перестали ходить с туфлями в руках через лес. Лето катилось к середине, июнь зажег на полянках желтые огни одуванчиков, потом июль засветил папоротник на Купалу, а затем и август превратил желтые головки в невесомые серые шарики да скоро сдул их. Мох на приступах к крепости пожелтел, а в самой цитадели сгустилась странная, непонятная, рокочущая ночами тревога.