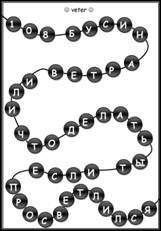Глава 20
Алина
Вечерний класс
Четвёртая позиция. Два пируэта. Первый арабеск. Пятая. Проводим целый рон-де-жамб до положения четвёртого арабеска. «И… Повтор до конца фразы!» – визжит Виктор, и мы начинаем заново.
Завтра утром у меня смотр! Меня могут ввести в спектакль! И я уверена, что введут. Коргина за, Самсонов всё увидит и не станет возражать, а Виктор… У него просто не повернётся язык сказать что-то против после того, что было сегодня.
Я взяла тетрадь, которую нашла в кладовке, с собой в академию. Между общей репетицией и вечерним классом я читала её под лестницей. Это оказался дневник Виктора, который он писал, когда сам ещё учился.
На сайте Вагановки есть списки выпускников за все годы, начиная с основания академии. Ошибки быть не может: на одном курсе со Станиславом Ташлаповым и Лидией Елецкой, которые упоминались в дневнике, учился Виктор Маравин. Они выпустились в середине девяностых годов прошлого века.
Он жил со старухой под одной крышей. Это его кровь на полу в моей комнате. Рядом с этой ведьмой он чувствовал то же, что и я. Мучился судорогами и кашлем. Возможно, так же как и я, не мог оттереть с кожи намертво въевшуюся ржавчину.
До занятия оставалось ещё сорок минут, когда я вошла к нему в каморку. Он знал уже, что утром я просила Коргину устроить мне смотр для ввода в спектакль, и уже открыл рот, чтобы начать орать, но я перебила его:
– После того, как вас выгнали из общаги, вы жили со старухой?
Я положила дневник на стол, и Виктор выпучил глаза так, как будто призрак увидел. Отвечать он не спешил.
– Я читала ваш дневник, – продолжила я. – Расскажите мне, почему вы получили травму. Это ведь из-за неё, да?
Виктор начал говорить, едва шевеля губами:
– Я был тогда на грани суицида. Я бредил.
– Да ну? А то, что вы сломали ногу накануне выпускного, – тоже бред? Это ведь она виновата! Вы знаете! Она погубила вашу карьеру, а теперь…
Он вдруг подскочил так резко, словно готов был наброситься на меня.
– Что ты несёшь? – он почти кричал. – Ты ничего не знаешь! Я не собираюсь обсуждать ничего с тобой – тебя это не касается!
– Но сейчас я на вашем месте! – я не удержалась и заорала в ответ. Жене, если она греет уши за дверью, и прислушиваться не надо. – Вы же знаете, в этой жуткой квартире я живу! Она меня с ума сводит! Но я не хочу потерять всё, как вы!
– Дура! – процедил он сквозь сжатые челюсти. – Идиотка! Живёшь – и живи, да радуйся, что нашлось, где тебя пристроить! И не лезь в моё прошлое: всё, что там, – там и останется. Скажу тебе только одно, и это запомни: в том, что случилось с моей карьерой, виноват только я сам. Когда надо было думать о том, как пробиться в театр, я думал о другом! Я пустил всё псу под хвост, и потом я же сам выбирался из этой задницы!
– Что она сделала вам? Почему вы упали тогда?
Его передёрнуло.
– Ну ты начиталась! Да я повторяю, я был не в себе! Ты рылась в дневнике, значит, знаешь, что со мной случилось! Я бредил, понимаешь, бредил наяву! А ты копаешься в этом, зачем? У тебя выпускной на носу! Думай о своём будущем!
– Вы жили рядом с ведьмой и знаете это. Почему не расскажете мне?
Виктор шумно выдохнул и вцепился руками в собственные волосы:
– Ну какая ведьма, ей-богу! Она твоя благодетельница! Только благодаря ей у тебя есть где жить! Ты должна радоваться! До потолка прыгать! Бабушка – божий одуванчик! Блокадница!
– Она не блокадница. Она в эвакуации была, – отрезала я.
– Да никто бы не взял её в эвакуацию! Фамилия у неё немецкая – Лирих. Эльвира Лирих – её вычеркнули из всех списков. Она блокаду пережила. Вот тебе ведьма!
Бесполезно было говорить с ним – правды точно не добиться. «Кашель у тебя, судороги? Так это климат! Тут тебе не курорты Краснодарского края!» – так он сказал. А когда я заикнулась о легенде Вагановского зала и предсказаниях в театральных программах, он завизжал так, что у меня уши заложило: «Ну что за глупости? Ну двадцать первый век на дворе! Ладно мы верили – тогда ни интернета, ничего не было, байки какие-то травили друг другу, шептались по углам – сам напридумывал, сам поверил, но сейчас-то куда?»
Ни слова правды, а всё потому, что он ненавидит меня, как и все здесь. Он хочет, чтобы со мной случилось то же, что с ним. Чтобы я потеряла свой шанс танцевать. Он завидует мне. С пеной у рта орёт, что я напридумывала какой-то ерунды, а ведь и сам верил в неё!
Я вышла от него с единственной мыслью: что бы ни случилось, я буду танцевать на сцене Мариинского на следующей неделе.
Два батман тандю вперёд. Два в третий арабеск. Нажим. Ставим в пятую. Нажим. Снова в пятую. Повторяем то же с высокими руками.
Я делаю движения чётко. Дышу свободно. Но думаю только о завтрашнем смотре. После истории с дневником Виктор ни слова не сказал по поводу него. Значит, противиться не будет.
Я покажу им сольную вариацию из па-де-де Джеймса и Сильфиды – я помню её до мелочей, и они сразу всё поймут. По-другому не может быть. Конечно, я трясусь. Но это не тот страх, который сжимает мышцы до одеревенения. Это другой. Он подхлёстывает, подгоняет. Не мешает, а помогает. Я использую его, чтобы показать всё, что могу.