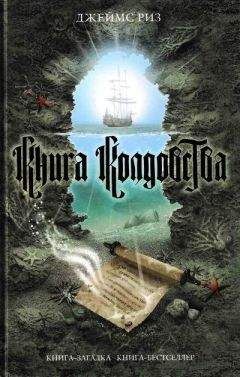В общем, все попытки ясновидения не имели успеха. К счастью, на сей раз мои неудачи закончились мирно — сиестой, охладившей жар мыслей.
Меня разбудило — шелест? — нет, жужжание крыльев нескольких десятков колибри.
Они были меньше моего мизинца. Откуда они взялись? Как им… Enfin, едва проснувшись, я уже пребывала в смятении. И кто не ощутил бы того же, оказавшись на моем месте? Я понимала лишь то, что подсказывали мне все мои шесть чувств, а именно: в мою комнату, где из-за наступивших сумерек уже было темно, залетели многочисленные колибри — такие яркие, что казалось, будто они источают свет. Однако эти яркие птички были совершенно белыми, чего, как известно, не может быть. Я хорошо знала, как опасно полагаться на подобное «не может быть». Во-первых, в мире существует необъяснимое, а во-вторых, это необъяснимое как раз порхало над моей головой.
Мои руки и ноги болели, лицо саднило, и я догадалась, что это все из-за птичек. Они разбудили меня своими клювиками — длинными, как иголки, и острыми, как жала у пчел, с которыми крохотные пичуги вполне могли сравняться по размеру. Вокруг летало такое множество колибри, что ткань блузки моей колебал поднятый ими ветерок, а кожа покрылась мурашками, словно от холода. И все же я не боялась, какими бы странными эти птички ни казались, ибо их появление я восприняла как знак. Несомненно, то было своего рода послание. Но о чем? Кто мне отправил его? И как его разгадать?
Покружив с громким жужжанием около меня, как пчелы возле улья, колибри разлетелись по комнате, осветив ее так ярко, словно зажегся фонарь. Но фонарь никому ничем не угрожает, а эти негодницы затеяли яростную драку, терзая друг дружку клювами. Затем они вылетели из комнаты, соединились в стаю и вроде бы успокоились. Я видела их, словно заключенных в рамки частого переплета окна, выходящего на старый город, и…
Город. Они хотели мне что-то показать. Звали меня выйти на балкон.
Одним прыжком я вскочила с постели и двинулась к окну — птички застыли в воздухе. Небо горело всеми красками вечерней зари. Солнце готово было вот-вот погрузиться в морские воды. Однако было еще достаточно светло, и я рассмотрела, что колибри было ровно полсотни. Да, пять десятков. Разумеется, я их не пересчитывала — я просто знала точное количество и понимала, что не ошибаюсь; а затем… Затем птички полетели в город, как стежки яркого света на темном покрывале ночи. Они были до того яркими, что мой взор с легкостью следовал за ними: их белизна казалась сверхъестественной, звездной, лучистой, как глаза моей soror mystica.
И вот я увидела. Увидела то, что птицы хотели мне показать, то, что они заставляли меня разглядеть. Мне оставалось лишь следить за направлением их полета, представлявшим собой сплошной луч света, протянувшийся к стоящей невдалеке башне, на которой…
На которой стоял во мраке не кто иной, как он сам. Темная согбенная фигура — старик в черном. Черная монашеская ряса с опущенным на лицо капюшоном. Потом он откинул капюшон, обнажив не то лысый, не то гладко выбритый череп. Я силилась рассмотреть его лицо, но было слишком темно, чтобы различать мелкие черты.
Он стоял на самом верху квадратной башни всего в три или четыре этажа высотой — что не мешало нам вознестись вдвоем надо всем городом, — а вокруг, на неимоверной высоте, продолжали кружиться ослепительно белые колибри. Они кружились, пока он не поднял руку. Может, он приветствовал меня? Это было невероятно; мне отчего-то думалось, что этот монах не способен на такой простой человеческий жест. И тут я увидела, что он движением руки управляет всей своей странной птичьей стаей. Внезапно колибри пропали из виду, влетели в некое подобие клетки, каковой являлась сама ночь, или попросту испарились — не могу вам сказать. Повинуясь единому взмаху. Как странно. Это абсурдно, но разве Себастьяна послала бы меня на поиски обычного монаха? Человека, чья святость зависит только от принесенных обетов? Легчайшим мановением руки он отпустил день, ибо в тот самый миг солнце зашло. Совпадение, подумалось мне.
Тьма воцарилась над миром. Ах, как темна и бездонна она была, эта первая ночь в Гаване.
Я поспешила в переднюю и покрепче закрыла дверь на засов. Потом захлопнула двери всех трех балконов и заперла на задвижки, после чего, вся дрожа от идущего изнутри меня холода, опустилась на пол в дальнем углу, ибо от монаха с его удивительно послушными птичками исходило нечто такое, от чего стыла даже моя ведьминская кровь.
Через витражное окно в форме веера светили звезды и луна, разноцветные пятна этого света ложились на пол и на стены. Я долго сидела посреди серебристой мерцающей заводи, где и заснула. Мне было боязно ложиться в постель, покрытую невесомыми белыми перышками, словно частицами света.
И когда первые лучи солнца явились, чтобы отшлифовать и отполировать все цвета, и разбудили меня, у меня в голове была одна истина, ясная как день: меня нашел тот, кого я искала, — К.
Или монах Квевердо Бру.
Лети среди эфира беспредельного:
Ты всем докажешь, что и в небе нет богов.
Сенека. Медея (Перевод С. А. Ошерова)
Если верить диалогам святого Григория Великого — а я, давным-давно потерявшая веру, считаю теперь себя вправе поверить во что угодно, даже в заявления святых, хотя это немодно, — то дьявол явился святому Бенедикту в облике черного дрозда. Со мной случилось нечто похожее, и я лежала на полу, прижавшись щекой к разноцветным холодным каменным плитам, истерзанная после визита пятидесяти алебастрово-белых колибри, которые принесли мне свидетельство в стрекоте и гудении сотни крылышек. Кто это явился ко мне ночью — дьявол?
Сомнительно. Трудно поверить, что у меня побывал тот, чье имя надо бы писать с большой буквы. По правде сказать, я никогда не ставила его слишком высоко; в моем сознании он не существовал отдельно от своего небесного антагониста, разве что пребывал не в горних высях, а пониже. Оба они казались одинаково далекими от меня. Я редко вспоминала и о том и о другом. Какое мне дело до таких важных персон? Кто они для меня? Отвлеченные понятия, не более. Я боялась других — их рядовых «солдат»: девиц, рехнувшихся в монастырях, папистов, сбившихся в бесчисленные своры, самцов, подобных пригретому Себастьяной Асмодею, верных только своему собственному злу. Не был ли этот странный монах одним из них? Именно такие подозрения посетили меня утром, когда я проснулась и обнаружила на руках отметины, оставленные его белыми крылатыми посланцами.