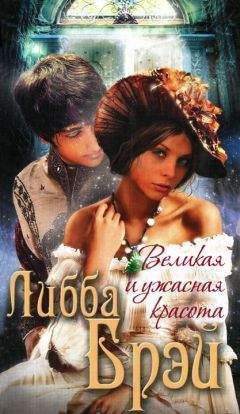Матушка плотно натягивает на плечи шаль.
— Печеньем можно побаловаться и потом…
— Но ты обещала!..
— Ну да, только это было до того…
Она умолкает.
— До чего?
— До того, как ты меня так раздосадовала! В самом деле, Джемма, ты не в том настроении, чтобы являться к кому-то с визитом. Сарита отведет тебя обратно.
— У меня прекрасное настроение! — возражаю я, и по моему тону можно без труда понять, что это не так.
— Нет, не прекрасное!
Зеленые глаза матушки смотрят на меня в упор. В них светится нечто такое, чего я никогда прежде не видела. Это огромный, пугающий гнев, от которого у меня перехватывает дыхание. Но он угас, едва вспыхнув, и передо мной снова стоит привычная матушка.
— Ты слишком устала, тебе нужно отдохнуть. Вечером мы устроим праздник, и я позволю тебе выпить немножко шампанского.
«Я позволю тебе выпить немножко шампанского…» Это не обещание; это извинение за то, что матушка собиралась сейчас избавиться от меня. Когда-то мы все делали вместе, а теперь не могли даже просто поговорить на базаре, не язвя друг другу. Я смущена и разочарована. Мать никуда не хочет брать меня с собой, не только в Лондон, но даже и в дом к старой деве, которая всегда заваривает слишком слабый чай.
Паровоз снова пронзительно свистит, заставляя матушку подпрыгнуть на месте.
— Вот что, я разрешу тебе надеть мое ожерелье. Давай, надень его. Я знаю, оно тебе всегда очень нравилось.
Я стою, онемев от изумления, пока мать украшает меня ожерельем, которое мне действительно всегда хотелось иметь, — но теперь оно кажется невероятно тяжелой, блестящей и отвратительной безделушкой. Взяткой. Матушка снова быстро оглядывает пыльную торговую площадь, а потом ее зеленые глаза опять останавливаются на мне.
— Ну вот. Ты выглядишь… совсем взрослой.
Она прижимает затянутую в перчатку руку к моей щеке и медлит, как будто хочет, чтобы ее пальцы запомнили это ощущение.
— Увидимся дома.
Я не желаю, чтобы кто-нибудь заметил слезы в моих глазах, и потому стараюсь придумать что-нибудь самое злое, что только можно было бы сказать в такой момент. И прежде чем уйти с базара, бросаю матери:
— Если ты вообще не вернешься домой, я не слишком огорчусь.
Я бегу прочь сквозь толпу торговцев и нищих детей, мимо вонючих верблюдов, чуть не налетаю на двух мужчин, несущих несколько новых сари на веревке, натянутой между двумя шестами. Я бросаюсь в узкую боковую улочку, мчусь по извилистым переулкам, наконец останавливаюсь перевести дыхание. Горячие слезы льются по щекам. Я позволяю себе заплакать — потому что вокруг нет никого, кто мог бы это увидеть.
«Избави меня Господи от женских слез, потому что мне не устоять перед ними». Так сказал бы мой отец, будь он сейчас здесь. Отец, с вечно моргающими глазами и кустистыми усами, гулко смеющийся, когда я радую его, и глядящий куда-то вдаль, словно меня и не существует, если я веду себя не как леди. Не думаю, что он обрадуется, услышав о моих поступках. Говорить гадкие вещи и убегать куда-то — это не то, что приличествует девушке, желающей уехать в Лондон. У меня сводит живот от этих мыслей. О чем только я думала?
Мне ничего не остается, кроме как проглотить гордость, вернуться назад и извиниться. Если только я смогу найти обратную дорогу. Все вокруг кажется незнакомым. Два старика сидят на земле, скрестив ноги, и курят маленькие коричневые сигареты. Они провожают меня взглядами, когда я прохожу мимо. Я вдруг осознаю, что впервые осталась одна в огромном городе. Ни компаньонки. Ни сопровождающих. Леди без свиты. Просто позор. Сердце забилось быстрее, я прибавила шагу.
Воздух вокруг стал совсем неподвижным. Близится буря. Я слышу вдали отчаянный шум торговой площади, люди торопятся завершить последние сделки перед тем, как все закроется по случаю дневного ливня. Я иду на звук — но снова оказываюсь там, откуда начала движение. Старики улыбаются мне, английской девушке, потерявшейся и оставшейся в одиночестве на улицах Бомбея. Я могла бы спросить у них, в какую сторону пойти, чтобы добраться до рыночной площади, хотя я говорю на хинди далеко не так хорошо, как отец, и, насколько я понимаю, вопрос «В какой стороне базар?» может прозвучать для индийца как «Я хочу обладать прекрасной коровой соседа». И все равно стоит попытаться.
— Простите, — обратилась я к старшему мужчине, с белой бородой. — Я, кажется, заблудилась. Не могли бы вы сказать мне, в какой стороне торговая площадь?
Улыбка старика угасла, сменившись выражением страха. Он заговорил со вторым мужчиной на незнакомом мне диалекте, звучащем резко, отрывисто. В окнах и дверях показались люди. Все смотрят на меня. Старик встает, показывает пальцем на меня, на ожерелье. Ему оно не нравится? Что-то во мне его тревожит. Он отмахивается от меня, уходит в дом и захлопывает дверь у меня перед носом. Что ж, я могу лишь порадоваться, что не только моя мать и Сарита находят меня невыносимой.
Но в окнах по-прежнему видны лица людей, следящих за мной. Падают первые капли дождя. Влага впитывается в платье, оставляя все увеличивающиеся пятна. Ливень может хлынуть в любой момент. Я должна вернуться. Лучше не думать о том, что скажет матушка, если ей придется промокнуть насквозь по моей вине. Почему я вела себя как какая-нибудь обидчивая дурочка? Теперь матушка ни за что не возьмет меня с собой в Лондон. Я проведу остаток дней в монастыре, в окружении усатых женщин, мои глаза постепенно ослепнут от плетения затейливых кружев для приданого других девушек. Я могу проклинать свой дурной характер, но это не поможет мне найти дорогу назад. «Выбери направление, Джемма, любое направление — и просто иди!» Я решила повернуть направо. Одна незнакомая улица выводит меня на другую, та — на следующую, я в очередной раз поворачиваю и вижу его. Того юношу с торговой площади.
«Не впадай в панику, Джемма. Просто медленно уходи, пока он тебя не увидел».
Я делаю два быстрых шага назад. Каблук попадает на скользкий камень, я невольно отпрыгиваю и оказываюсь на середине улицы, с трудом удержавшись от падения. Когда я наконец твердо встаю на ноги, он смотрит на меня с непонятным выражением. Секунду-другую мы оба не двигаемся. Мы так же неподвижны, как воздух вокруг нас, обещающий дождь или угрожающий бурей.
Внезапно по всему телу расползается леденящий страх, я вспоминаю разговоры, которые слышала в кабинете отца, — разные истории, что рассказывают за бренди и сигарами, об ужасной судьбе женщин, гуляющих без сопровождения, о том, как на них нападают дурные люди и навсегда губят их жизнь. Но то были всего лишь слова… А сейчас передо мной настоящий, живой мужчина, и он идет в мою сторону, он сокращает расстояние между нами широкими шагами…