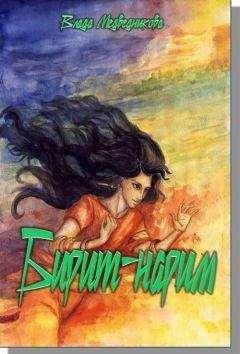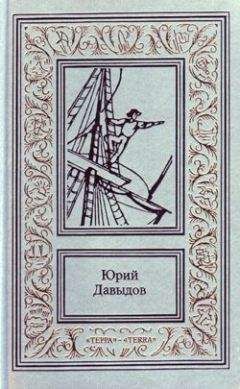— Я не боюсь людей, — отозвался Лабарту. — Хоть эти и правда жестоки и многочисленны.
— Они называют себя кутиями. — Инанна-Атума на миг замолкла, а потом продолжила. — И, хоть и тяжко это слышать, но слова его были правдивы. Быть может, от твоего города остались одни лишь развалины.
— Этого не может быть, — возразил Лабарту, обернувшись. — Стены Аккаде несокрушимы, эту крепость невозможно взять.
Инанна-Атума вновь улыбнулась и качнула головой.
— Нет такой крепости, — проговорила она, — которую невозможно взять.
3.
Городская стена была цела. Ровные ряды кирпича, потускневшая под летним солнцем краска — разноцветные охранительные знаки… Да, стена осталась, но ворота были сорваны и брошены в пыль. Огромные, деревянные, скрепленные бронзовыми полосами, лежали они по обеим сторонам дороги.
В моем городе не было стены.
Лабарту старался идти чуть ссутулившись, глядя под ноги, — чтобы ничем не отличаться от жителей Лагаша. А они, впустившие чужаков в свой город, теперь старались стать незаметнее и тише.
Речной ил и городская грязь, казалось, въелись в кожу, а волосы и одежда пропитались дымом. И откуда-то то и дело тянуло запахом свернувшейся крови, и во рту мерещился ее ядовитый привкус.
Лабарту мечтал о воде. Сбросить одежду и нырнуть с головой, смыть с себя войну и беды людей. Но есть ли чистая вода в этой земле? И ничего не оставалось — лишь идти вперед, опустив голову, не глядя по сторонам. Но мысли убегали прочь, и глаза уже не замечали утоптанной земли под ногами.
…не было стены, и город лежал между рекой и каналом. И на рассвете, с крыши нашего дома я видел степь. И бегущие меж полями дороги на Киш и Урук. И…
— Эй, стой! — Его схватили за плечо и развернули, грубо.
Не успев подумать, Лабарту схватил незнакомца за руку, и лишь тогда поднял голову, встретился с ним взглядом.
Это был чужеземный воин, невысокий, но коренастый, загорелый почти до черноты. И что хотел он и отчего остановил путника, покидавшего город, теперь не понять — Лабарту ни слова не успел произнести, а взгляд человека уже остановился, дыхание стало размеренным и глубоким.
Люди слабы. Прикосновения и взгляда достаточно, чтобы увлечь их темную глубину, заставить повиноваться… Ты не зря остановил меня. Тебя вела судьба.
Поодаль, возле полупустых торговых рядов, стояли другие воины. Один из них обернулся, и Лабарту почувствовал настороженный взгляд.
— Скажи им, — тихо проговорил Лабарту, — что у тебя дело ко мне. Пусть не тревожатся.
Воин повернулся, по-прежнему держа Лабарту за плечо, и крикнул что-то своим. Слова показались знакомыми, но все же не разобрать их — даже в степи, где кочует Ашакку, говорят по-другому.
Ашакку.
Ветер зашелестел в зарослях тамариска, и Лабарту на миг зажмурился, глубоко вздохнул. У воздуха был привкус асфальтовой смолы — память о сгоревших лодках.
Где ты, Ашакку? Быть может, страшась воинственных полчищ, ты поспешила ко мне, в Аккаде? И ждешь меня сейчас за высокими стенами? Но если…
— Сейчас ты пойдешь со мной по дороге, — сказал Лабарту, глядя на человека, оказавшегося в его власти. — А потом, когда город скроется из виду, переберешься на другой берег Тигра. Там, в степи, станешь искать юную женщину, владеющую стадами. Как зовут ее сейчас — не знаю, но спрашивай у всех, что нужна тебе Ашакку, что Лабарту послал тебя к ней. И как найдешь, скажи, чтобы прислала мне весть о себе. И пока не найдешь ее — не будешь знать покоя.
Мимо проехала повозка. Погонщик настороженно косился на стражников, стоящих у ворот. И не зря — чужеземцы уже направлялись к нему.
Что ж, самое время. Пора.
— Пока они не смотрят на нас, — проговорил Лабарту, — идем.
Глава десятая Обратный путь
1.
Издалека казалось, что и это селение брошено — тихо в нем, скот не блеет, собаки не лают, и людские голоса не слышны. Лишь вороны с хриплым карканьем кружатся над полями, взлетают и опускаются вновь. Солнце опускается к горизонту, и вечерний свет мягко ложится на дорогу. Но стоит приглядеться, и ясно — не от закатных лучей покраснела вода в каналах. И смрад разложения, пронизавший, кажется, всю страну, — чем ближе к домам, тем сильнее. Сладковатая отрава заполнила воздух и затмила все: запахи трав, осенних цветов и людских жилищ.
Только запах войны остался. Запах огня и бронзы.
Да, всего лишь еще одно покинутое селение… Уже два таких миновал Лабарту за сегодняшний день, а сколько всего их было по пути из Лагаша? Да и стоит ли считать?
Но жажда льдинками трепетала возле сердца, и Лабарту ступал легко и бесшумно, прислушивался к обострившимся чувствам. Знал — рядом есть люди.
Искать не пришлось.
Кутий, скучавший возле полуразрушенной ограды, успел вскочить и потянуться за оружием. Но кто сравнится скоростью с экимму? Лабарту разорвал чужеземцу горло и пил, пока не закружилась голова, пока солнечный огонь не переполнил тело. Тогда, бросив умирающего воина на дорогу, вытер губы ладонью и продолжил путь.
Я расточителен. Он шел, глядя на заходящее солнце, стараясь не замечать ядовитых испарений. Стараясь не думать о том, что ждет его в конце дороги. Мог бы довольствоваться малым… Но война — время изобилия, помнишь, ты говорил мне это, Илку? Можно убивать безнаказанно, и никто не заподозрит…
В селении были еще люди. Не больше дюжины, но где они — не разобрать. Слишком много мертвых вокруг, слишком много крови впитала земля. Горстки людей стоит ли бояться? Но когда-то двое колдовской силой уничтожили всех экимму в Шумере. И как знать, кто пришел теперь с гор?
Ни к чему шагать по царской дороге, у всех на виду.
Лабарту перепрыгнул через ограду, и, неслышный как тень, продолжил путь — между домами, мимо опустевшего загона для скота, по тропе вдоль пересохшей канавы…
И остановился, почувствовав настороженный взгляд.
Из-за ствола старой сливы выглядывала девочка. Совсем еще юная, сколько зим она видела, шесть или семь? Вся перемазанная в земле и копоти, сидела, обхватив ствол, и не шевелилась.
Лабарту показал пустые ладони, а потом прижал палец к губам, призывая к молчанию. Хотел пойти дальше, но девочка вдруг метнулась к нему, схватила за подол рубахи, словно пытаясь удержать. Лабарту опустился на колени, положил ей руки на плечи. Девочка смущенно потупилась, разжала ладони и выпустила ткань.
— Прячешься? — тихо спросил Лабарту.
Девочка кивнула.
— Мы с братом… Он ушел, но придет… скоро.
Скоро? Как давно ты ждешь его, с рассвета или с заката?
Потянулся к ней своими чарами, но лишь самым краем их — для того лишь, чтоб унять ее страх. И девочка и впрямь перестала дрожать и подняла глаза, огромные и темные, как у Нидинту.
— Ты весь в крови, — прошептала она. — Подожди.
Она вывернулась из-под его рук и отбежала за дом. Лабарту сидел неподвижно, прислушиваясь. Торопливые детские шаги, плеск воды, шуршание сухой травы… Солнце еще не зашло, но стены заслоняли его лучи, и, казалось, уже наступили сумерки. И стоит лишь закрыть глаза — и сквозь запах войны можно уловить аромат плодов, созревших, но так и не собранных, готовых упасть на потрескавшуюся землю.
Девочка вернулась и, задыхаясь от бега, остановилась перед Лабарту. В руках у нее была чаша.
— Это чистая вода. Ее можно пить.
Лабарту медленно осушил чашу. У воды был привкус глины.
Воспоминания вспыхнули, и голоса в них зазвучали, перебивая друг друга.
«Пей, дитя Ану», — сказал жрец в белых одеждах, и кровь потекла в медный жертвенный сосуд.
«Пей, мой хозяин», — сказала Кэри. В глазах у нее блестели слезы. «Пей.»
— Спасибо тебе за чистую воду. — Лабарту протянул обратно чашу и на миг замолк, подбирая слова. — Пусть горести твои закончатся.
Он поднялся на ноги.
— Не уходи, — попросила девочка, глядя на него снизу вверх. — Здесь есть вода и можно спрятаться, и…
… Хочет, чтобы я остался и защитил ее…
Защитил от кутиев, не жалеющих ни стариков, ни детей, и не берущих рабов. От чужеземцев, щадящих лишь те селения, что сразу пали перед ними на колени.
Убей ее, прошептал голос Кэри. Будь милосерден.
Они лишь качнул головой и пошел прочь — так быстро, что девочка, должно быть, и не заметила, как он исчез.
Кто я такой, чтобы быть милосердным, Кэри?
2.
Он шел, не останавливаясь, и лишь в полночь, в самый темный час, когда звезды кажутся особенно близкими, и звери рыщут в степи в поисках добычи, остановился передохнуть, сел у края дороги. Ветер шуршал в траве, и от этого вспомнилось море. Волны, снова и снова накатывающие на прибрежный песок благословенной земли… Листья пальм, качающиеся в вышине, тишина и покой… И юная полукровка, смотрящая вдаль незрячими глазами.