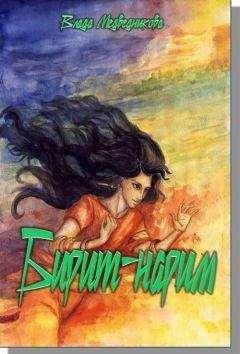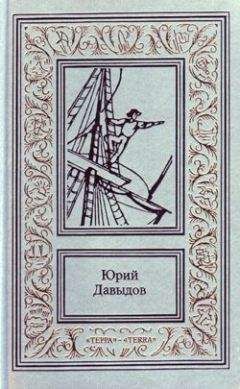Все города эти, как братья и сестры, похожи…
Угарит был самым большим из них, и самым могущественным, и Лабарту пробыл там семь дней, полную неделю. И за неделю успел вдосталь набродиться по тесным, узким улочкам, обойти весь город вдоль и поперек. Но куда бы ни шел, к вечеру вновь оказывался на причале, провожал солнце, смотрел, как море пылает в закатных лучах.
Люди здесь не жили войной, ремесла и торговля были им ближе, но город словно бы вечно ждал нападения, — с суши ли, с моря… Изобильный и гостеприимный город, но странный, и столь же странным был его хозяин.
Нур-Айя хотел повидать хозяина Угарита, Лабарту помнил об этом, и втайне наделся встретить брата Илку по дороге, или в городе. Но, должно быть, тот замешкался в Баб-Илу или избрал другой путь.
«Он верховный жрец города», — так говорил Нур-Айя, и это оказалось правдой. Но при том хозяин Угарита дорожил своим местом среди людей, и управлял делами города.
Как Хинзу и Зу, они хотят того же.
Думать об этом было неприятно, и так же тяжело было разговаривать с верховным жрецом. Лицо его скрывал причудливый узор, но силу скрыть ничто не могло. Этот экимму могуществом намного превосходил Лабарту, но с виду был невзрачен и вел безумные речи. Но в гостеприимстве был безупречен, звал остаться, и многократно называл Угарит лучшим среди городов.
Если и есть у него тайное знание, которое ищет Нур-Айя, то мне оно не нужно.
Потому, получив дозволение пить кровь, Лабарту простился с хозяином города, и не заходил больше ни в его дом, ни в храмы.
Здесь жили и другие экимму. Двоих старших обращенных верховного жреца Лабарту видел лишь мельком, а с младшим легко завязалась беседа, и один из дней Лабарту провел в его доме, и разговоры были долгими.
Младшего звали Барка. Свободу он обрел совсем недавно, но все же казался старше других пьющих кровь в этом городе. И стены Угарита, казалось, тесны ему, — слишком высоким он был, слишком красивым, не похожим на уроженцев этих мест. И обращенный у него уже был, — со здешним именем, но по виду из дальних, северных мест.
За разговором вечер тянулся медленно, огонь дрожал в светильниках, пламенные тени скользили по стенам. Барка спрашивал про другие страны, про места, где побывал Лабарту, но говорить было трудно, снова и снова мысли возвращались к Баб-Илу. И начинал рассказывать, и не мог договорить, слова ловил на ощупь и замолкал. И когда ночь вступила в свой самый темный час, и душа потерялась в ней, тогда сказал: «И я знаю теперь… что счастья в любви не может быть». И, глядя на обращенного Барки, думал: Высшая радость — оживлять своей кровью… Но у меня обращенных не будет больше.
И сейчас, глядя как искрится солнце на морской глади, гнал непрошенную мысль, но она уходить не желала.
Больше никогда… оживлять своей кровью не буду…
— Видишь? — спросил глава мореходов, указывая вперед. — Вон Ако.
Там, вдалеке, горная гряда спускалась к морю и похожа была на тень неба. Лабарту улыбнулся.
Должно быть кедры растут там…
— Нет! — Собеседник взмахнул рукой, указал вновь. — Ты смотришь не туда! Ако ближе!
Лабарту перевел взгляд и впрям увидел, — город-крепость, еще крохотный, едва различимый, но нет сомнений — брат другим городам побережья.
— Мой корабль не поплывет дальше Ако, — продолжал мореход. — Но если хочешь дальше отправиться морем, то без труда найдешь тех, кто держит путь дальше вдоль берегов Кнаана. И до Азы сможешь доплыть и до Египта…
До Египта.
До страны, где не чтут законов и правил, откуда приходят демоны, демонами себя не считающие… Лабарту мотнул головой, отгоняя воспоминания.
Должно быть, это знак.
— Нет, — отозвался Лабарту. Говорил он легко, и смотрел на берег, на скалы и зеленые заросли. — Нет мне нужды дальше следовать морем, ведь я плыл в Ако.
* * *
Он шел весь вечер и всю ночь, шел быстрее, чем ходят люди, и не мог остановиться. Воздух пьянил, а земля под босыми ногами с каждым шагом словно толкала вперед, звала. Кровь, утолившая вчера жажду, наполнила его ослепительной силой, и хотелось лишь идти, вперед, в темноте, под россыпью тысяч звезд.
Но утро уже миновало, настал день, — солнце пылало над головой, текло теплом по коже. И Лабарту остановился, вдыхая полуденный свет.
Кругом шелестели травы, голоса птиц сплетались со стрекотом цикад, и аромат весны кружил голову. Тропа бежала, то поднимаясь, то спускаясь, и насколько хватало глаз волнами простирались холмы.
Столько земель повидал я, но нигде не видел…
Яркой, многоцветной была весна в степи, а в землях севера, — живительной, освобождающей душу. И все же, нигде…
…не видел, чтобы так…
Пытался понять, но даже в мыслях не смог подобрать слов.
Тогда засмеялся, шагнул прочь с тропы и упал в траву, подставив лицо солнечным лучам. Слушал, как перекликаются птицы, искал знакомые голоса: вот горлица, а вот аист… Но усталость минувших дней подкралась незаметно, и Лабарту закрыл глаза.
Так странно, словно и не три тысячи лет миновало со дня, когда я родился… Мысли вспыхивали и гасли среди золотого и алого света. Словно бы снова стал юным… Моложе, чем был, когда бежал из Лагаша… Моложе, чем был, когда Шебу и Тирид покинули город… Совсем юным…
Полдень окутывал теплом, проникал в душу. Звуки отдалялись и гасли, воспоминания растворялись вдали. И сновидения уже увлекали в солнечный водоворот, когда сердца коснулась мысль, — Я счастлив…