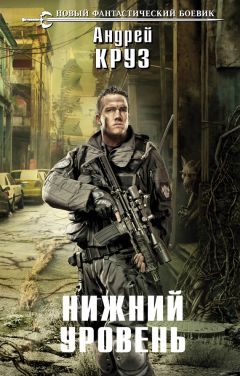– Научите?
– Даже так? – удивился я.
– А почему нет? Вы против?
Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как… черт, иначе и не скажешь, но вот как тогда, в подвале виллы Гонсалеса, тянуло вниз, как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился. Какое-то неромантичное получается сравнение, но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет, причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться.
И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательна, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно, она скромна, сдержанна, элегантна… Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее – самих мыслей нет, только ощущения, все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя.
– Никаких проблем. Если есть желание.
– Желание? Желание есть. – Она опять сдержанно улыбнулась. – Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое.
– Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять «лодку»? Она здесь хорошая, практически ничего не хочется выкинуть.
– Согласна. – Она откинула меню на столик. – Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела ее предложить. Сходство во вкусах что-нибудь символизирует, как вы думаете?
– Только надежду. На развитие отношений.
Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась и затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
– Расскажите о себе.
Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все.
– Особо нечего рассказывать. Как-то вырос…
– В России?
– Да, в Москве. Как-то служил. Как-то уволился. Как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию…
– Потом сюда?
– Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес.
– А сюда почему?
– Ну, так сложилось, – я пожал плечами.
– Навсегда?
– Нет, не думаю. – Я даже засмеялся, уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. – Пока. Не знаю, на сколько. Как дела пойдут.
– А идут?
– В принципе идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что это страна с самым высоким содержанием подобных людей.
– Интересно заниматься чужими проблемами? – Она чуть вскинула брови.
– Нет. Но деньги за это платят.
– Хм… откровенно.
– А что, надо заняться вашими проблемами?
– Нет. – Она улыбнулась. – У меня нет проблем.
– А как же разговор по телефону? Тогда, после моего приезда с Молиной?
– Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?
А вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения, но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел, но мне как-то не верится в то, что ее так же потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод и женщины мне внимания не уделяли, а она все же из возраста «девочки», ищущей «мальчика», вышла, но… Но просто такое мое «неудержимое влечение» – это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются не часто и взаимными точно быть не должны.
И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать, я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания, и то, что она искала встречи сама… это радует, вообще-то. Обнадеживает.
– А я в Испании родилась, как уже говорила, – сменила она объект обсуждения. – Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету – житель «Скалы». Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюррей, но, когда мне исполнилось четырнадцать, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линеа, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете.
– А почему сюда? Разве в Испании не лучше?
– Что-то новое. Новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда. Но пока мне нравится. А вам?
– Мне тоже. Не нравилось – я бы сюда не приехал, – соврал я легко и свободно.
Двор, пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутой под воротник, в старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок, стриженый тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в вылинявшие и растянутые на коленях треники. В правой, опущенной, руке – топор.
Мне одиннадцать лет, я даже еще не вырос, я смотрю на человека в майке снизу вверх, он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой, я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый, он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он меня сейчас и не видит, я вышел совсем тихо, ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами.
Не слышу слов, знаю точно, что сосед – вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. И я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все, это в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают.
Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд.
Ружье. Трофейное, дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело.
Патроны лежали там же, на полке в жестяной банке. И перед тем как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается, дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал.
А потом мне стало совсем страшно, тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь.
Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя.
Первым ко мне повернулся дед, я увидел, как он побледнел, сразу, вот был загорелый и даже смуглый и вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал, а это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное.