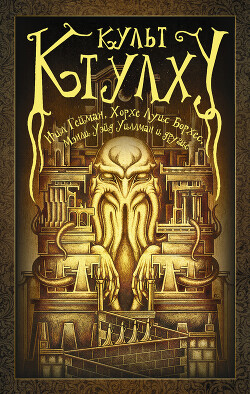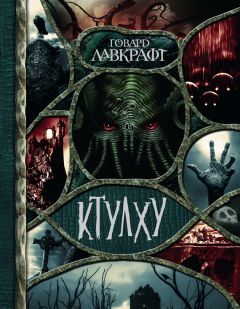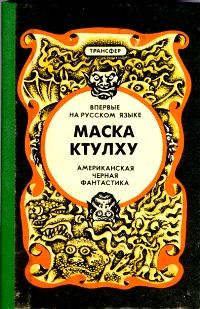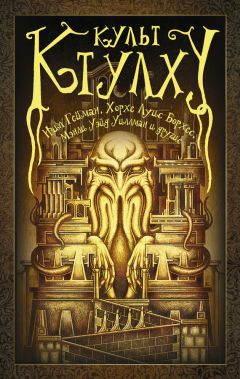Жуткие заглавия кружили перед моим внутренним взором, скалились, прятались в темных углах комнаты. Вот тогда-то мне и открылось все чудовищное бесстыдство выбора Клода.
На втором курсе Мискатона брат приехал в Приорат на Рождество. Не успел он и двух дней пробыть дома, как отец внезапно и тяжело занемог. Причиной стал спор.
Я как раз шел мимо приоткрытой двери в библиотеку, когда услыхал отцовский голос. Я был только что из деревни, на моих задубевших от зимнего холода щеках уже готовилась расцвести приличная празднику улыбка, как вдруг… Я встал как вкопанный. Они меня не слышали. Отец сгорбился в кресле за своим письменным столом; рот его в мягком ламповом свете выглядел причудливо искривленным, глаза – испуганными. По пергаментно-сухой коже расползалась нездоровая бледность. Клод, стоя спиной ко мне, молча глядел на оранжевый освежеванный труп полена в камине.
– Клод… – Голос отца звучал глухо, словно на грудь ему давило некое тяжкое бремя. – Ты должен понять…
– Я понимаю…
Он говорил едва слышно, но с какой-то зверской твердостью.
– Нет, ты не… – Отец взмахнул бессильной, оплетенной синими венами рукой. – Пойми, что я делаю это для твоего же собственного блага. Да, мать оставила тебе по завещанию кое-какие деньги – поровну тебе и твоему брату – но они были помещены в траст и находятся на моем попечении до твоего совершеннолетия… или до моей смерти. Клод, ты должен остаться в Мискатоне. Ты…
– Я тебе уже сказа: меня тошнит от колледжа! Я уже узнал там все, что можно. Мне нужны эти деньги! Я хочу путешествовать, хочу увидеть Тибет и Китай. Хочу пожить на юге, в Индии…
Он стремительно повернулся к отцу, и я впервые увидал у него во взгляде кипучую, лихорадочную ненависть пополам с неконтролируемым гневом. Я увидал, как отец слабеет под натиском этого бесчеловечного взора. Голос брата взлетел до безумного, мучительного вопля; он навис над скорчившейся в кресле фигуркой:
– Говорю тебе, мне нужны эти деньги!
– Клод!
Я шагнул в комнату, и свертки из лавки хлынули у меня из рук. Елочные игрушки разлетелись об пол, усеяв его мириадами алых и зеленых осколков. Клод замер в нескольких футах от кресла. Отец обратил на меня широко распахнутые глаза, в которых плескались ужас и облегчение. Он снова поднял безнадежно слабую руку, словно хотел заговорить, но тут же откинулся на подушки, смертельно-бледный и бесчувственный. Задыхаясь от гнева и омерзения, я оттолкнул Клода и упал на колени подле отца. Пульс едва бился в его тонком запястье.
– Почему ты не оставишь его в покое? – прорычал я. – Почему не уберешься отсюда к дьяволу?
– Я все равно получу то, что мне нужно, – спокойно ответил он. – Так или иначе.
Только ужасное состояние отца помогло мне выплыть из холодных, вязких пучин безумия, куда я оказался ввергнут словами брата. Не успела дверь библиотеки закрыться за ним, как я уже звонил доктору Эллерби. Он приехал немедля. Годы сделали его толще и почти лишили волос. Он прописал успокоительное и несколько дней постельного режима… но я увидал на его дородном, цветущем лице то же бессильное изумление, которое помнил по ночи, когда умерла мать. Уверенным профессиональным тоном он заявил, что отцу нужно во что бы то ни стало избегать волнений. Я практически мог читать его мысли: в этом древнем доме, думал он, процветает зараза, исцелить которую не в силах никакая мирская медицина.
Доктор Эллерби навещал нас каждый вечер. Механически и с фальшивой бодростью осмотрев пациента, он спускался в библиотеку, пропустить столь необходимый в подобных обстоятельствах стаканчик. Я смотрел на его удрученно поникшие плечи: он обычно стоял у окна, глядя на лиловую зимнюю тень нашей ясеневой рощицы. Через какое-то время он медленно качал головой и произносил голосом тяжелым и утомленным:
– Все это так странно. Я просто не могу объяснить происходящее. Мы с твоим отцом знакомы с самого дня его приезда в Иннисвич: у него никогда не было проблем с кровью. Их и сейчас нет! А между тем… между тем кровь будто утекает из его организма, капля за каплей.
Слова могли быть разные, но их горький, страшный смысл оставался неизменным. Они отдавались тревожным эхом в каком-то потайном уголке моего разума, вплетаясь в холодные, ядовитые каденции другого голоса. Я снова и снова слышал звонкий хруст битых елочных игрушек под ногой у Клода и жуткое бормотанье этого бледного призрака: «Так или иначе, я все равно получу то, что мне нужно».
А одним февральским утром, когда я неба сеял ледяной дождь, в Иннисвичский Приорат доставили письмо. Оно было адресовано отцу и подписано неким Джонатаном Уайлдером, деканом Мискатонского университета. Дорогая бумага слабо шуршала под моими дрожащими пальцами. Дурное предчувствие поднялось вязкой волной, забивая легкие, лишая сил дышать. Письмо оказалось совсем коротким, а фразировка – темной и странно сконфуженной. Автор не сказал практически ничего внятного, но более чем прозрачно намекал на какой-то непонятный страх, владевший его разумом. Первым делом он заявлял, что не в силах доверить суть дела бумаге, а потому был бы весьма признателен, если бы отец приехал к нему в университет, дабы они могли в частном порядке обсудить некие необычайные обстоятельства, приведшие к чрезвычайно прискорбному повороту в академической карьере его сына, Клода.
Отец так никогда и не увидел письма. В следующую субботу поздно вечером я сел на поезд в Аркхэм. Устало откинувшись на блекло-зеленые подушки спального вагона, я неотрывно глядел в квадрат непроницаемой тьмы, служивший мне окном. Я не видел призрачных пейзажей, через которые тарахтел наш состав, подобно какому-то гигантскому фосфоресцирующему червю, вечно ползущему в могильном мраке. Перед моими горящими от бессонницы глазами, словно в гипнотическом, растленном данс-макабре так и плавало последнее предложение из письма Джонатана Уайлдера:
Поверьте, мне крайне тяжело вам это сообщать, но после долгих раздумий Правление Мискатонского университета сочло положение безвыходным и исключило вашего сына, Клода Эшера, из нашего учебного заведения.
IV
Джонатан Уайлдер оказался высоким бледным человеком, тщательно прятавшим мрачную неприязнь взгляда за поблескивающим забралом пенсне. Он сложил кончики костлявых пальцев и долго безмолвно глядел в окно, на голые просторы университетского кампуса, пристально изучая дальнюю гряду серых холмов, окаймлявшую Аркхэм и щурясь на льдистый отблеск зимнего солнца на лениво извивающейся между ними ленте реки. Внезапно он резко и решительно повернулся ко мне и откашлялся.
– Надеюсь, вы поймете нашу позицию по данному вопросу, мистер Эшер. Правление было более чем готово проявить к вашему брату снисходительность, учитывая, какой блестящий интеллект… Но, увы…
Он неопределенно пожал плечами и вытер пенсне о рукав своего серо-стального костюма.
– Дело в том, что с самого начала Клод выказывал довольно… как бы это сказать… нездоровый? Да, решительно нездоровый интерес к предметам, абсолютно противоположным самим концептуальным основам медицинской науки. Практически все свое время он проводил в университетской библиотеке…
Вы… что-нибудь слышали о библиотеке Мискатонского университета, мистер Эшер? Нет, вижу, что не слышали. Что ж, довольно будет сказать, что на данный момент наша библиотека может похвастаться самым обширным в мире собранием источников запретного и эзотерического характера. В закрытой секции имеются единственные сохранившиеся копии таких изданий, как «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта и «Книга Эйбона»… да, и, представьте себе, даже ужасный «Некрономикон».
Интересно, что даже Джонатан Уайлдер неудержимо содрогнулся и умолк, произнося эти проклятые названия. Когда он снова заговорил, голос его был тише шепота.
– Ваш брат, мистер Эшер, переписывал эти страшные источники целыми страницами. Как-то раз одна из библиотекарей (совершенно здравомыслящая и во всех отношениях надежная молодая особа, уверяю вас) уже много позже закрытия обнаружила Клода Эшера в темном углу между стеллажей: он пытался бормотать какое-то заклинание на непонятном языке. Она клялась, что в лице его… не было ничего человеческого.