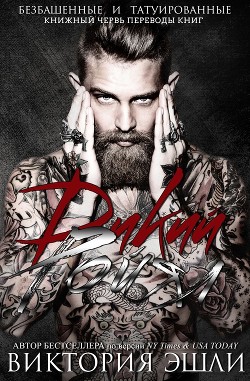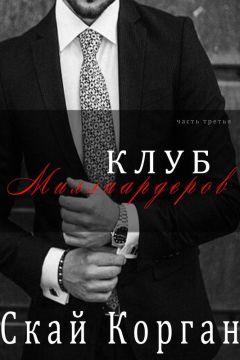— Извини, мужик, — говорит он. — Она — ключ.
Я жажду наказания.
— Карен. — Скорее вздох, чем слово.
— Думаешь, она стала счастливей?
— Какого черта ты меня спрашиваешь?! — Теперь я почти кричу. С меня хватит. Я вскакиваю, смотрю на него — с ненавистью и гневом, злобно и беспомощно.
— Это не значит, что она не любила тебя, — говорит он, поднимаясь вместе со мной и хватая меня за руку.
— Отцепись! — Обычно в моем голосе не слышно угрозы. Но в этом слове нечто большее, я в жизни от себя такого не слышал. Он не отстает.
— Достаточно только вопроса, — говорит он. — Что, если?.. Что, если, например, ее муж не родился на свет? Что, если?..
Я сбросил его руку.
— Минутное любопытство, — говорит он, — обретающее плоть. Меняющее реальность.
Стоя я выше этого типа. Во мне не осталось страха. Не сейчас. Я распрямляюсь, ощетинившись, как кот, нависаю над ним, словно задира-третьеклассник. Но слушаю и понимаю. Я говорю:
— Она может это исправить?
Он качает головой:
— Ты можешь.
— Как?
— Убив ее.
— Что?
Прежде чем реальность снова сдвинется. Прежде чем кто-то снова ее изменит, какой-нибудь Антонио Феррари за пятнадцать тысяч километров отсюда.
Меня трясет. Я отшатываюсь. Меня снова мутит, и я радуюсь, что в желудке пусто. Голова кружится. Трудно сосредоточиться. Но я больше не боюсь. И не сержусь. Все чувства вытекли сквозь пальцы рук и ног, покинули тело вместе с разумом и силами. Да, теперь я уверен, что пропаду. Все кончено.
А затем женщина возвращается и шепчет мне на ухо:
— Он хочет тебя видеть.
IV
Я не мог смотреть ему в глаза. Один был мертвым, неподвижным, пугающим, другой сиял, как жуткий изумруд. Он протянул руку, пошевелил пальцами, словно поторапливая меня, и снова сказал:
— Монету.
Несмотря на хриплый голос, понять его было не сложно. Он казался живым. Бодрым. Остальной мир превратился в размытое, неясное пятно.
Я забормотал, пытаясь подобрать слова, и наконец выдавил что-то вроде:
— Чего?
Он показал мне нож. Ничего примечательного, не броский, не длинный, не особо острый. Честно говоря, выглядел он старым и ржавым. Перочинный нож — не охотничий, но порезать им можно. Хотя полицейские часто патрулировали тротуар, мост был длинным, и патрульных поблизости не оказалось.
— Не вынуждай, — сказал он.
— У меня нет денег.
— Может, так оно и есть. — Он кашлянул — отвратительный, мокрый звук: — Тогда тебе не поздоровится.
Я сунул руку в карман, вытащил пятерку. Остальная сдача за пиво была монетами.
— Вот. Все, что есть.
Он смотрел на дрожащую в моей руке банкноту. Единственный здоровый глаз дернулся, изуродованный остался недвижим. Он выхватил пятерку, сунул ее в карман и сказал:
— Сойдет.
Нож исчез. Я не понял куда. Он отступил к цементному ограждению высотой до пояса и железным перилам. Технически мы все еще находились под мостом. Через несколько метров пешеходная дорожка поднималась, чтобы слиться с ним. Какой-то департамент использовал здешний клочок земли, и пауки натянули сети между рельсов. Бродяга стоял достаточно близко, чтобы один из этих пауков забрался к нему в шевелюру или чтобы что-то выползло из нее. Он улыбнулся. показав несколько зубов, заостренных, как иглы.
Кашлянул, смерил меня здоровым и больным глазами и, наконец, сказал:
— Что ж, беги.
Почему я до сих пор этого не сделал? Возможно, распознал в нем что-то. Какой-нибудь поклонник нью-эйджа назвал бы это аурой. Трудно выразить, но маньяк был спокойным и странно вежливым. Угрожал неохотно. Казался более реальным, чем Роджер или тот мужчина, живший в моем доме, или девушка за стойкой.
Больше, чем внешность, нож или смерть в голосе, меня напугала его реальность. Я был потрясен.
Словно вошел в дом с привидениями на карнавале. В детстве я часто так развлекался, не пропускал ни одной ярмарки, катался на всех аттракционах, ел всю сладкую вату, которую мог достать. Наконец добирался до дома с привидениями. Обычно это были дешевые, неубедительные декорации на скорую руку — павильоны, полные выпрыгивающих на тебя призраков, пенопластовых надгробий, черных ламп, от которых светились шнурки. Когда мне было шесть, я попал в один дом в Атлантик-Сити — лабиринт узких коридоров со стеклянными стенами, за которыми разворачивались сцены из рассказов Эдгара Аллана По. Я запомнил «Колодец и маятник» не из-за раскачивавшегося маятника или привязанного к столу актера. Я шел последним, когда другой актер, сгорбленный, одетый в черное, распахнул потайную дверь у меня за спиной и тихо сказал:
— Пошевеливайся.
Это напугало меня до чертиков. Долгие годы я искал это ощущение ужаса на дешевых карнавалах.
Здесь — на Харбор-бридж в Сиднее — я столкнулся с тем же страхом. Адреналин заструился по венам. Я тяжело дышал, хватая ртом воздух, стук сердца гремел в ушах, но ноги словно приросли к земле. Тогда, в шесть лет, я не двигался с места, пока тетя не потащила меня за собой.
На этот раз ее не было рядом, чтобы меня спасти. Я глядел на человека, несомненно сумасшедшего. Увидел в нем себя и сморгнул слезы.
Все детали, которые должны были вызывать ужас, поблекли. Я больше не замечал шрама или крохотных тварей, копошившихся в его бороде. Лезвие исчезло, жуткая усмешка — тоже. Он дрожал. Не только я. Бродяга держался за железные перила рукой, в которой прежде был нож, потому что, как и я, боялся упасть. Мы глядели друг на друга, и вокруг и внутри нас клубились волны страха, тревоги и отчаянья. Кажется, мы поняли, что сидим в одной лодке.
Бродяга обнял меня и заплакал.
— Я все потерял, — проговорил он несколько раз. — Все. Исчезло.
От него воняло, и, наверное, он бы испачкал меня чем-то липким и отвратительным, но в тот момент я ни о чем таком не думал. Я был потерян, как и он, а возможно, даже больше, и изо всех сил цеплялся за надежду. Нашел ее в этом незнакомце.
Он наконец отстранился, ударившись в ограждение позади, вытер нос рукавом и сказал:
— Подземка. Иди туда.
Я ответил:
— Спасибо.
Он вытащил что-то из кармана, вложил мне в ладонь и закрыл ее.
— Для меня уже слишком поздно. Тебе нужней.
Это были деньги. Больше, чем отобранная им пятерка. Прежде чем я сумел ответить, он побежал по пандусу с моста — к лестнице, которая выходила на улицу. Я смотрел на банкноты. Две сотни, два полтинника. Оглянулся, но он уже исчез.
Я простоял там еще немного, замерзая, всхлипывая, утратив уверенность в чем бы то ни было. Смотрел на небо, на многоэтажки справа. Изредка появлялись и исчезали люди: полуночные бегуны, юные влюбленные и туристы. Огибали меня, почти не глядя, вероятно не замечая вовсе. В свою очередь я тоже, не обращая на них внимания, двинулся дальше. Через мост и Милсонс-Пойнт на другом берегу — в Киррибилли, где по соседству с премьер-министром жил мой друг Пол.
V
Я не хочу идти.
Женщина ведет меня к двери в задней стене этой темной вонючей дыры. Ноги сами несут меня следом. Рот не желает возражать. Руки потеют, сжимаясь и разжимаясь, бесполезно болтаются по бокам.
Мы идем, и кто-то спрашивает:
— А как же я?
Она отвечает:
— У тебя тоже будет шанс.
Значит, это мой шанс. Счастливый билет. То, что происходит за этой дверью, касается только меня и, возможно, ее, а может, и его, человека, что так хочет меня видеть. Большого босса. Того, кто поставил всю эту жуткую, смертоносную шваль на колени. Лучше царить в аду, чем прислуживать на небесах, да? [1] Похоже на то.
Я сознаю, что построил мифологию вокруг этого незнакомца. Я даже не знаю, человек ли это. Я ни в чем уже не уверен. Мой мир разваливается на части, и я готов примкнуть к любой церкви ради утешения. Новая религия нисходит в бездны мочи и дерьма, смерти и уродства. Я не священник и не апостол, не служка или хорист, я — козел отпущения, кровь и плоть свихнувшейся истории, вне начала и конца. Nihil sum [2].