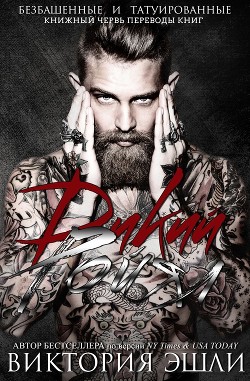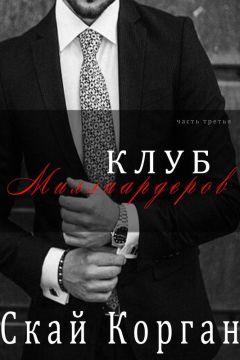— Ты дрожишь, — говорит она, как будто я не в курсе. Берет меня за руку, желая успокоить. Рука у нее теплая, в жесте нет угрозы, она сжимает мою ладонь, словно убеждая, что все будет хорошо. Я хочу верить ей так же, как верил маме.
— Как ты живешь здесь? — спрашиваю я. Потому что ей здесь не место. По сравнению с остальными она — богиня. Прекрасная. Добрая. Чистая. Я чувствую в ней еще что-то, стремительное и опасное, но она это прячет, и я не боюсь. Совсем. Правда.
— А где мне еще жить? — Она пожимает плечами, улыбается и тянет меня к двери: — Вперед. Давай покончим с этим.
— У меня есть шанс? — спрашиваю я. Все остальные ждут своей очереди.
— Как посмотреть.
— На что?
— На то, какой именно шанс тебе нужен.
Я не уверен, нарочно ли она уходит от ответа или отвечает искренне. Возможно, и то и другое. Мы уже у двери. У нее есть ключ. Никакой церемонии или заминки — времени хватает только, чтобы перевести дух. Я вдыхаю полной грудью, хотя воздух полон мерзких, неименуемых запахов, а потом иду за ней в комнату в конце этого величественного и ужасного подземного зала.
VI
Это кабинет. Огромный деревянный стол видел лучшие дни, но он не гниет и не украшен ни резными дьяволами, ни херувимами.
Она отпускает мою руку, запирает дверь и садится в удобное старое кресло рядом. Здесь еще два — перед столом, на котором куча бумаг, папок, несколько снимков в рамках и стопка фотографий. Стены голые и темные, такие же, как снаружи, но не влажные. Не заляпаны граффити и дерьмом. Ароматические свечи горят, но только добавляют нотки ванили и коричневого сахара к другим запахам.
Наконец я смотрю на человека за столом, понимая, что не смогу отвести от него взгляда. Он хорошо одет, гораздо изящней, чем я ожидал. Я не могу прочесть, что вытатуировано у него на костяшках, буквы слишком старые. На нем нет ни грамма лишнего жира, но он не хрупкий. Он улыбается мне, как доктор, готовый сообщить диагноз, который точно не будет хорошим. Напоминает мне крестного с моей родины. Конечно, это безумие, ведь я не итальянец, и никакой родины у меня нет, и мой крестный потерял связь с родителями еще до того, как мне исполнилось пять. Он моложе, чем кажется, в черных волосах проглядывает седина. В пепельнице полно коричневых окурков и пепла, но они все погасли. Дым, вероятно, маскирует вонь лучше, чем свечи. Он встает и протягивает мне руку. Хотя я довольно высок, он смотрит на меня сверху вниз. У него сильное рукопожатие. Аккуратное. Он спокоен, словно его все устраивает. Словно он в гармонии с миром. Гуру на вершине Гималаев.
— Пожалуйста, Кевин, — говорит он голосом мягким, как у политика, неторопливо и безмятежно указывая на кресла, — присаживайся.
Я подчиняюсь.
Вы можете решить, что я делаю это из уважения, но это не так. У меня нет причин думать, что он расстроится, если я не приму его предложение. Это первое чистое и удобное на вид кресло, которое мне попалось за долгое время, и кости у меня ломит от груза бед.
— Ты знаешь, кто я, — говорит он.
— Вообще-то, — отвечаю я, — понятия не имею.
Улыбка у него искренняя. Чтобы я расслабился. Но почему я так напряжен?
— За этими дверьми — худшие отбросы общества, — начинает он, не говоря мне ничего нового. — Преступники и наркоманы, омерзительные, опасные, нежеланные. Но так было не всегда. Одни были принцами, магнатами, адвокатами. Другие — насильниками, убийцами, поджигателями и торчками. У каждого своя история, вот только не каждый готов ее рассказать. И не все истории правдивы... или были правдивы.
Отличное начало. Наверное, ведь он зачаровал меня и я едва не вскакиваю с кресла, наклоняюсь вперед, жду, что будет дальше.
— То, что ты знаешь или думаешь, что знаешь, больше не реально Этого не было, не произойдет, просто не сможет. Конечно, многое осталось прежним. Вероятно, тебе кажется, что ты узнаешь почти все. Места. Людей. Но никто не знает тебя. Никто из них никогда тебя не видел, даже если должны были. Тебя ведь не существует и никогда не существовало. В этой реальности ты не рождался. Вот почему ты здесь — с нами. Ты забыт. Остался за бортом. — Повторение этой фразы, вполне ожидаемой, причиняет боль. — Ты тень мира, который не умирал потому, что и не существовал, разве что в грезах безумцев или на страницах книг. Поверь мне, возвращаться некуда, бороться не за что — это лишь измучит тебя. Это — путь в личный ад.
Он останавливается, переводит дыхание, но не дает мне заговорить — даже если бы я этого хотел:
— Лучше жить дальше, сознавая, что мир изменился, и начать все заново. Притвориться, что прошлого не было.
Он, довольный своей речью, откидывается назад. Я — тоже, но в ужасе. Гляжу на женщину и говорю:
— Ты не сказала, как тебя зовут.
— А это важно?
— Нет. Но мне бы хотелось знать.
— Иезавель.
Я знаю, что делаю. Избегаю конфликта. Отрицаю, что это моя реальность. Откладываю неизбежное. А еще я овеществляю этот мир, наполняю его не лицами и фигурами, но живыми людьми с именами и прошлым и, как говорит мужчина, с историями.
— А ты, — говорю я, поворачиваясь к нему, — ты эту часть пропустил. Стоило начать с «Привет, я чертов мистер Икс».
Он кивает:
— Прошу прощения. Привет, я чертов мистер Икс. Я хочу рассказать тебе правду и предложить несколько вариантов действия.
Я прищуриваюсь. Мне не нравится, что он не хочет открыть свое имя, но я решаю не давить. Он улыбается, видимо читая мои мысли, и говорит:
— Зови меня Иеремия.
Имя не хуже любого другого, думаю я, но не то, что дано ему при рождении.
— Знаешь, что случилось? На самом деле?
— У меня есть... теории. Если интересно.
— Тогда, пожалуйста, просвети меня.
Глава 3
I
Идя по Харбор-бридж, видя справа оперный театр, я наконец постиг, что значит быть туристом. Не являясь частью этого мира, я вторгся в него, стал временным посетителем. Это не могло быть моей действительностью. В квартире ждали чужие вещи. В спальне — чужая жена. Из пистолета тоже целился не я.
Ненадолго остановившись, я посмотрел с моста на паромы, пытаясь вспомнить, каково это — в тепле гулять за руку с любимой. Мне не хватало Карен.
Дойдя до края моста, спустившись на улицу, я уже окоченел.
Лестница привела меня в Киррибилли, прямо к туннелю на Бертон-стрит, где пару раз в месяц проводились ярмарки. Мы с Карен иногда на них ходили, ели гезлеме [3], бродили среди фотографий, винтажной одежды и свежей выпечки. Табличка извещала, что ярмарка искусств и дизайна будет в это воскресенье. Я мог вообразить, где вырастут конкретные прилавки, не только в коротком туннеле, но и на траве со стороны Милсонс-Пойнт.
Казалось, я мог коснуться воспоминаний. Стоило подождать, и прилавки поставили бы. Женщина, торговавшая бижутерией, расположилась бы в том углу. Однако я понятия не имел, что стало с Карен. Моя квартира, очевидно, больше мне не принадлежала. Меня трясло. Пришлось отвернуться от туннеля и спуститься по покатой улице. Напротив виднелись аптека, центр полетов, видеомагазин — как один закрытые на ночь. Любая из улиц, бегущих вдоль моста, привела бы меня к Карабелла-стрит, а та — к дому Пола. Почти все они были темными, лишь изредка желтели пятна фонарей. Не спеша углубляться во мрак, я зашагал по Сидней-Харбор. Не до самой воды — на Фитцрой оставил относительную безопасность уличных ламп и свернул. Во тьме стало еще холодней.
Справа был знакомый ресторан, аргентинский гриль. Крошечный закуток, где Лео готовил лучший стейк, какой я только пробовал. Мы с Карен ходили сюда по крайней мере раз в месяц. Хозяева знали нас, а мы знали их. Я остановился и вгляделся в окна. В задних комнатах еще горел свет, хотя обеденный зал был погружен во тьму. Они все еще делали уборку. Но я не мог войти. Не потому, что мы с Карен сидели здесь слишком часто, — просто все стало другим.