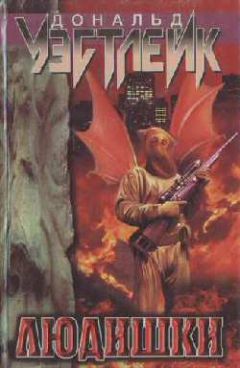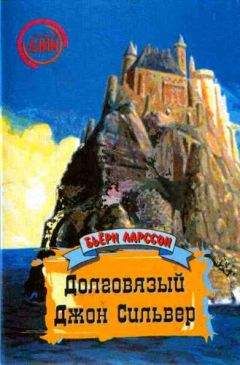Майкл Стайнберг был именно тем, что ожидал лицезреть Карсон. Истинный семит, что твой торговец коврами. С той лишь разницей, что он оказался способен на сочувствие и понимание.
— В здешней тихой, приятной атмосфере, проникнутой духом познания, едва ли можно было ожидать несчастных случаев, какие бывают на производстве, — сказал он. Стайнберг сгорбился в удобном кресле напротив голого стола Карсона и суетился над своими бумагами, будто наседка. — Университет Грейдинг, и вдруг — взрывы!
Вот именно. Наконец-то нашелся понимающий человек. Но кто он! Карсон хоть и был тронут его сочувствием, а все же знал, что негоже выносить сор из университетского городка.
— Доктор Филпотт — выдающийся сотрудник факультета. Возможно, его научные исследования… — Тут Карсон решил, что вправе издать суховатый смешок, — …иногда и кажутся малость жутковатыми. Это надо признать. Но правда и то, что они совершенно необходимы.
— Но нужны ли они именно здесь? — спросил страховой агент, постукивая авторучкой по стопке бланков. Это раздражало.
Зародившееся было в груди Карсона чувство товарищества слабо задергалось и испустило дух.
— Что вы хотите этим сказать? Разумеется, они нужны здесь. Доктор Филпотт — профессор нашего университета.
— Извините, доктор Карсон, — сказал агент, втягивая голову в плечи и хлопая глазами за стеклами очков в черной оправе. — Разумеется, я говорю не от имени компании, а лишь делюсь с вами мыслью, которая пришла мне на ум только что и, возможно, покажется вам дельной.
— Боюсь, что не понимаю вас.
— Доктор Филпотт — профессор университета Грейлинг, — сказал Стайнберг, пожимая плечами. — Но разве его лаборатория должна непременно располагаться здесь? Разве для нее не найдется гораздо лучшего места?
Карсон никак не мог уразуметь, о чем ведет речь его собеседник.
— Например?
— Ну, не знаю… Военный лагерь или что-нибудь в этом роде. — Он указал своей авторучкой на окно. — Кажется, неподалеку отсюда есть какое-то правительственное учреждение. А у вас, должно быть, найдутся связи в Вашингтоне.
— Есть несколько человек, — неохотно согласился Карсон. Негоже распространяться о своем влиянии, тем более в беседах с незнакомыми евреями из страховых компаний.
— Когда доктор Филпотт пребывает в своей профессорской ипостаси, пусть себе живет здесь, в университетском городке. В прекрасном, надо сказать, университетском городке, — продолжал Стайнберг. — На когда доктор Филпотт становится исследователем, ему лучше уезжать в какое-нибудь другое место. Миль за двадцать? Может, за тридцать отсюда? На какой-нибудь правительственный объект, где знают, что делать, если рванет.
Карсону вдруг показалось, что в словах этого человека есть смысл. Президент даже улыбнулся гостю.
— Мистер Стайнберг, возможно, вы правы, — сказал он.
Стайнберг передернул плечами и втянул в них голову. Потом усмехнулся своей кривой вороватой усмешкой и ответил:
— Ну а заодно и моя компания сбережет несколько долларов.
Аннаниил
Основой антисемитизма, несомненно, служит страх перед необузданным еврейским коварством. Иными словами, коль скоро они сторонятся «нас», «мы» считаем их чужаками, вот и получается, что они и впрямь чужаки. Стало быть, им нет нужды терзаться угрызениями совести, ведя дела с «нами». И они могут хитрить сколько душе угодно. Хитрость — залог их общественной полезности; они прекрасные законники, врачи, счетоводы и так далее. Но отсутствие угрызений совести делает их опасными. Посему то, на что они способны, мгновенно превращается в то, что они делают в действительности, да еще так хитро, что у «нас» кишка тонка поймать их на этом. Они и впрямь себе на уме, и у них нет никаких причин быть милосердными по отношению к «нам». До чего же это мерзко.
Ходдингу Кэйбелу Карсону нет ровни. Он выслушивает распоряжения сверху и передает их вниз. Кто же сможет внушить ему то, что я хочу? Никто из его окружения на это не способен.
Надо, чтобы этим занялся какой-нибудь чужак. Кроме того, чужак должен произвести на Карсона впечатление человека хитроумного. Лучше всего сделать Карсону предложение таким образом, чтобы он подумал, будто чужаком движет простое человеколюбие, хотя в глубине души чужак, разумеется, будет печься о собственной выгоде.
Ведь люди, право слово, простаки.
Ну а теперь — в Москву.
Григорий проснулся. Теперь будильник был ему, по сути дела, и не нужен, хотя Григорий привычно заводил его каждый вечер, прежде чем проглотить свою полуночную пилюлю. Теперь он просыпался за пять, семь или девять минут до начала трезвона и неподвижно лежал в черной мгле, чувствуя, как кипит его возмущенный разум. Почему-то в эти короткие мгновения, в темноте, в четыре часа утра, перед приемом пилюли и самым началом трезвона, ему зачастую лучше всего думалось, и он записывал в лежащий у кровати блокнот по меньшей мере одну новую шутку.
«Недавно был обнародован новый пятилетний план. Его цель — рассказать правду обо всех предыдущих».
Хорошо? Плохо? Трудно сказать. Нынче смех проистекает не столько из юмора, сколько из стремления найти точки опоры в мире, где эти точки ежедневно смещаются во все стороны. Это само по себе смешно или по крайней мере нелепо. Нынешние шутки смешат людей не остроумием, а дерзостью; сейчас главное — насколько близко подходит шутник к границам дозволенного в эпоху, когда никто не знает, а что, собственно, дозволено. Может, все? Ну, это вряд ли.
Послышался зуд будильника — тихий, сдержанный звук, наполнивший комнату, но не способный потревожить других обитателей стационара. Григорий сел, включил ночник и пристроил блокнот на коленях, чтобы записать шутку про пятилетку, над которой он поразмыслит потом, при свете холодного дня. Покончив с писаниной, Григорий выбрался из постели и зашлепал босыми ногами в ванную, чтобы набрать воды и запить пилюлю. Здесь, в Москве, он жил куда вольготнее, чем в Киеве. Собственная комната, да еще неплохо обставленная. Собственная ванная с полным набором принадлежностей, даже с душем, хоть и насквозь ржавым. Вона какая роскошь!
«Наш космонавт на орбите объявил летучую забастовку. Он отказывается идти на посадку, пока ему не дадут квартиру, не уступающую размерами спускаемому аппарату».
Григорий принял пилюлю, уделил необходимое внимание толчку и занес в блокнот шутку про космонавта. Что ж, неплохо, неплохо. Еще два-три года назад говорить о забастовках было куда опаснее, чем сейчас. Злободневность — вот в чем весь секрет. Как только она бледнеет, можно смело прикалываться на любую тему, выжимать ее досуха, а потом, когда злободневной станет какая-нибудь другая тема, надо просто шмыгнуть в кусты и переждать.