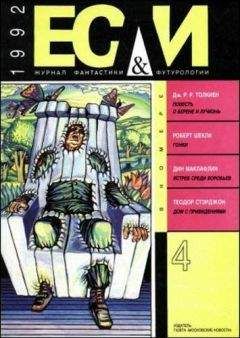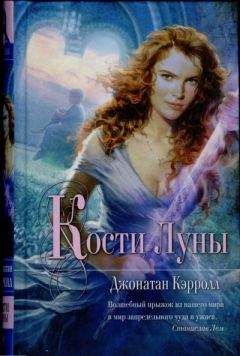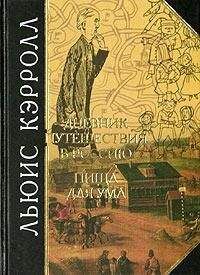— Я ужасно страдал, пытаясь отогнать мысли об этом, — сказал он. — Но ответьте мне прежде, не известен ли вам человек по имени Джон Харрингтон?
Гейтон был потрясен до глубины души и от неожиданности смог лишь вымолвить:
— Но почему вы об этом спрашиваете?
Тогда последовал подробный рассказ обо всех приключениях Даннинга — о том, что случилось в вагоне трамвая, в его собственном доме, на улицах Лондона, а также о том, какой леденящий ужас сковывал его душу и не отпускал ни на минуту. Закончил Даннинг тем же вопросом, с которого начал. Гейтон просто растерялся, не зная, что ответить. Возможно, правильнее было бы сразу рассказать о том, как умер Харрингтон, но Даннинг был сильно встревожен, а история эта отнюдь не отличалась оптимизмом; к тому же у Гейтона не мог не возникнуть вопрос: не связаны ли оба эти случая с личностью Карсвелла? Признать такое ему, ученому, было непросто; впрочем, можно попробовать прикрыться спасительным термином «гипнотическое внушение». В конце концов, он решил сегодня сдержаться и пока не отвечать на вопрос Даннинга полностью; ему хотелось сперва обсудить сложившуюся ситуацию с женой. Так что он сказал лишь, что действительно знавал Харрингтона еще в Кембридже и слышал, что тот внезапно умер еще в 1889 году; потом он прибавил еще кое-какие незначительные детали, характеризующие Харрингтона и его работы. Позже они обсудили эту проблему с миссис Гейтон, и она сразу же ухватилась за идею, которая все время вертелась в уме и у самого секретаря ассоциации. А именно: жена напомнила ему о ныне здравствующем брате покойного Харрингтона, Генри, и предложила связаться с ним.
— Он, должно быть, неисправимый чудак, — возразил Гейтон.
— Ну, Беннеты, которые с ним близко знакомы, безусловно, смогут подтвердить, так ли это, — заявила миссис Гейтон, и на следующий же день отправилась к Беннетам.
Не стоит, видимо, утомлять читателя подробностями знакомства Даннинга с Генри Харрингтоном. Достаточно сказать, что они познакомились, и вот какой разговор состоялся между ними однажды, когда Даннинг сообщил, сколь странным образом ему стало известно имя покойного; поведал он кое-что и о своих недавних злоключениях, а потом спросил, не может ли Харрингтон также припомнить какие-либо особые обстоятельства, связанные со смертью его брата. Изумление Харрингтона, выслушавшего рассказ Даннинга, легко себе представить, однако он тут же с готовностью ответил:
— Состояние Джона было, безусловно, весьма необычным, особенно временами, и странности усилились в течение последних недель его жизни. Хотя и не самых последних. Странности эти носили различный характер; во-первых, он был абсолютно уверен, что его преследуют. Он, без сомнения, был человеком впечатлительным, однако подобных фантазий раньше у него не возникало. И я не могу избавиться от мысли, что это следствие чьего-то злонамеренного внушения. А ваш рассказ о собственных ваших злоключениях очень напомнил мне то, что происходило с моим братом. Вам не кажется, что между этими событиями есть какая-то связь?
— И одно звено ее теперь стало смутно прорисовываться в моем мозгу. Мне сказали, что ваш брат незадолго до своей кончины написал весьма суровую рецензию на одну книгу, а совсем недавно я, к сожалению, невольно точно так же перешел дорогу автору той книги. И ему, видимо, это очень не понравилось.
— Только не говорите, что его имя Карсвелл.
— Ну отчего же? Именно так его и зовут.
Генри Харрингтон отшатнулся.
— Теперь мне все окончательно ясно. Я должен сообщить вам еще кое-какие подробности. Некоторые замечания Джона навели меня на мысль, что его заставили — в весьма большой степени против его воли — поверить, что именно Карсвелл является причиной всех треволнений. И вот я хотел бы рассказать вам о том, что, по-моему, имеет самое непосредственное отношение к нашему общему делу. Брат мой был большим любителем музыки и весьма часто ездил в город на концерты. Так, за три месяца до своей гибели, он вернулся с одного из таких концертов и дал мне посмотреть программку, он такие программки всегда сохранял. «Я чуть не потерял ее, — сказал он. — Наверное, нечаянно уронил где-то. Я искал ее везде — в карманах, под сиденьем и так далее — пока мой сосед не предложил мне свою, сказав, что ему самому она больше не нужна. Почти сразу же после этого он ушел. Мне он был совершенно незнаком, такой полный, очень чисто выбритый мужчина».
Несколько позже брат рассказал мне, что в тот вечер, после концерта ему было очень не по себе как на пути в гостиницу, так и в течение всей ночи. Вскоре, перебирая как-то свои программки и раскладывая их по порядку, брат мой обнаружил в той самой (я, кстати сказать, на нее тогда едва взглянул) на первой странице прилипшую сверху полоску папиросной бумаги с какими-то весьма странными письменами, очень аккуратно выполненными красной и черной тушью — надпись показалась мне более всего похожей на древние руны. «Ах, — сказал мой брат, — эта запись, должно быть, принадлежит тому моему полному соседу. И похоже, что она важная, так что ее следовало бы непременно вернуть. Возможно, надпись скопирована откуда-то и очень тщательно; кому-то, видно, пришлось над этими письменами серьезно потрудиться. Как бы мне найти его адрес?» Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что давать объявление в газету все же не стоит, а лучше моему брату просто постараться отыскать полного господина на следующем концерте. Оба мы в этот момент сидели у горящего камина: несмотря на летнюю пору, вечер был холодный и ветреный. Листочек, покрытый загадочными письменами, лежал поверх книги. Наверное, сильный порыв ветра приоткрыл дверь, хотя я и не заметил, как это произошло, но так или иначе, сквозняк — а, надо отметить, это был теплый сквозняк — внезапно пролетел по комнате, подхватил листок и швырнул его прямо в огонь. Листок был легкий, тоненький, он вспыхнул и в одно мгновение унесся в дымоход хлопьями сажи. «Ну вот, — сказал я, — теперь тебе и отдавать нечего». Брат примерно с минуту молчал, потом каким-то сварливым тоном ответил: «Ну естественно! И незачем без конца это повторять!». Я заметил, что упомянул об этом всего лишь раз. «Всего лишь раза четыре, ты хочешь сказать!» — и он сердито умолк… Не знаю, видели ли вы ту книгу Карсвелла, на которую писал рецензию мой несчастный брат. Вряд ли вам стоит это делать: сам-то я в нее заглядывал — и до смерти брата, и после. В первый раз мы вместе весьма потешались над ней. Стиль у автора был поистине ужасен — собственно, никакого стиля и не было, — да и безграмотность чудовищная. Ну, а содержание его книги нормальному человеку вообще переварить не под силу: перепутанные греческие мифы и истории из «Золотой книги сказок», прямо соотносимые с обычаями дикарей, существующими и поныне, — все это, разумеется, очень интересно, если умело пользоваться подобной информацией, а вот этого-то Карсвелл как раз и не умел. Он, похоже, одинаково реалистично воспринимал как «Золотую книгу сказок», так и «Золотую ветвь»,[3] а из описаний Фрэзера, сказок и мифов выводил нечто среднее, полностью веря собственным выводам. Короче говоря, впечатление книга производила весьма жалкое.