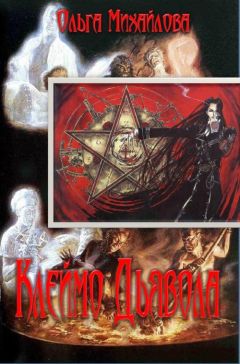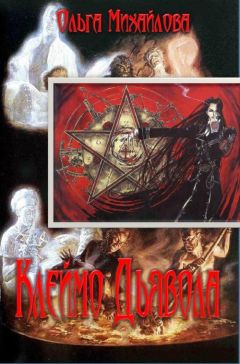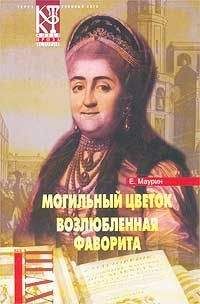…Эммануэль Ригель не знал своего происхождения. Ребенком он смутно запомнил громыхающую повозку, старуху, что-то настойчиво и утешающее бормочущую ему на языке, которого он не понимал. Потом был маленький домик на юге Франции, в Буш-дю-Роне, неподалеку от Марселя, а спустя ещё год, когда он едва-едва стал понимать французский, в памяти мелькали разверстая могила и седовласый священник, что-то нараспев скорбно читающий на латыни.
Именно он, аббат Максимилиан, сжалился над ним, семилетним, и поселил сироту после смерти его бабки у себя в доме при церкви. Поддавшись первому порыву жалости к перепуганному ребёнку, священник наутро сам испугался последствий столь необдуманного шага. Что он наделал? Он стар, а мальчишка может оказаться неуправляемым.
Но первая неделя пребывания малыша Ману в доме не подтвердила опасений аббата. Мальчик отличался кротким нравом, чистым сердцем и удивительной тягой ко всему таинственному и запредельному. Изумившись этой склонности своего питомца, аббат, однако, сумел направить её к тому единственному запредельному, которому служил сам. Преподав малышу евангельские истины, старик не затруднял юного Ригеля их повторением, но его ежедневные жертвенные труды для паствы учили Эммануэля лучше всяких слов. Мальчик министрировал на мессах, вёл приходские книги, легко научился играть на скрипке и веселил старика вечерами старинными мелодиями.
Теперь аббат уже не понимал, как раньше обходился без него.
При этом, занятый делами прихода и молитвенными бдениями, священник не обратил внимания на одно незначительное, но весьма диковинное обстоятельство: его старый облезлый кот Корасон, давно уже переставший ловить мышей и часами без движения лежавший на солнцепеке, с появлением в доме малыша Эммануэля неожиданно залоснился блестящей полосатой шерсткой, засверкал зазеленевшими глазами и вновь стал грозой всех церковных крыс. Кухарка священника ничего не понимала. Ведь кот появился в доме в тот самый год, когда женился её старший сын, а было это, без малого, восемнадцать лет назад…
Чудеса…
В год своего семнадцатилетия Эммануэль неожиданно получил письмо, уведомлявшее, что он зачислен на первый курс университета Меровинг, и его обучение полностью оплачено. Аббат был изумлён — учёба в Меровинге стоила баснословно дорого. Кто и когда записал его приёмного сына туда, где обучаются только отпрыски аристократических родов и дети нуворишей? Кто оплатил обучение? К несчастью, он не успел расспросить покойную бабку Ману о его родне, но, как бы то ни было, это решало многие проблемы. Аббат перестал молить Господа о продлении своих дней, ибо будущее юноши было определено. Его смерть стала для юного Эммануэля первой до конца прочувствованной и весьма болезненной утратой.
Он потерял отца.
…Первым впечатлением Эммануэля от Меровинга было ощущение неминуемо надвигающейся беды, сменившееся вдруг щемящим томлением потаённой радости, когда он, помогая вносить сундуки в спальни, подняв глаза, встретился взглядом с Симоной Утгарт. Она проронила: "Благодарю" и отвернулась. Мягкая и строгая красота девушки заворожила и околдовала его.
Меровинг и вправду оказался весьма элитарным заведением, преобразованным полвека назад в университет из иезуитского колледжа. На четырех его факультетах обучалось менее ста человек, и огромный замок всегда выглядел безлюдным. Студенты первого курса гуманитарного факультета занимали два этажа в Северном корпусе, отгороженном от остальных корпусов Конюшенным двором и бронзовой оградой с литым гербом древней королевской фамилии.
На факультете Ригель сразу пришёлся не ко двору. Он не мог назвать никого из своих титулованных предков, а здесь это было равносильно колотушке прокажённого. Он отдалился от всех и старался держаться в тени. Но и это не помогало. Его сокурсники-аристократы избрали его, Генриха Виллигута и еврея Гиллеля Хамала мишенью для постоянных насмешек. Но Виллигуту удалось быстро заручиться покровительством куратора, Хамалу — декана, и лишь Эммануэль был беззащитен.
…Эммануэль стоял в храмовой нише, кутаясь в свою ветхую мантию, и думал о Симоне. Грубый окрик вывел его из задумчивости. Мормо и Нергал. За их спинами маячил Сиррах Риммон.
— Эй, замарашка, опять витаешь в облаках?
Эммануэль почувствовал сильный толчок в плечо. Он понимал свое бессилие. Нергал был силён, как медведь, а вместе с Мормо и Риммоном, тоже отличавшимся геракловым сложением, мог просто забить его до смерти. Любая попытка защититься только озлобляла и разжигала их, и стоя под градом ударов в разорванной мантии, Ригель больше всего боялся, как бы случайно не появилась Симона. От резкого удара по лицу, задевшего висок, в его глазах потемнело. Он медленно сполз по стене вниз.
…Очнулся Эммануэль в ванной. Чья-то рука осторожно терла его плечи, стараясь не задевать ссадины. Вскинув голову, отчего всё тело пронзила резкая боль, он онемел. Над ним склонился Морис де Невер, "arbiter elegantiarum", законодатель мод факультета, неизменный любимец профессоров и кумир девиц. Ригель иногда на лекциях любовался его безупречной красотой, но за всё время учёбы — уже две недели — не перемолвился с ним ни словом.
— Можешь сам подняться? — Невер снял с вешалки огромное полотенце.
— Да, конечно, — стараясь, чтобы лицо не перекосило болью, Эммануэль осторожно ухватился за края ванной и встал. Морис накинул на его плечи полотенце и, легко приподняв, словно ростовую куклу, опустил на пол и медленно повёл к себе.
В его гостиной полыхал камин, было тепло и уютно.
— Ты извини, но тебе придется надеть это. Твоя одежда изорвана в клочья, — Невер протянул Ригелю белую шелковую рубашку, черные панталоны, сюртук и бархатную мантию, отороченную чёрным шелковистым мехом.
Таких вещей у Эммануэля не было отродясь.
— Но я… я не могу…
— Не можешь ты — ходить голым по замку. — Морис улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. Его мягкий баритон был благозвучен и мелодичен. — Ты шокируешь дам, и подорвёшь в Меровинге устои нравственности. И не трудись возвращать мне это, слышишь? Одевайся, — Невер поднялся и, чтобы не смущать Эммануэля, подбросил в камин дров и принялся ворошить их кочергой. Эммануэль, преодолев оцепенение, начал лихорадочно натягивать на себя одежду, с третьего раза попадая в рукава.
Обернувшись, Невер замер в немом изумлении. Произошло что-то необыкновенное. Роскошный бархат мантии сразу подчеркнул рафинированную хрупкость и аристократичность юноши, белое кружево манжет обрисовало удивительную утончённость его бледных пальцев, проступил и абрис тонкого патрицианского лица, вырезанного с классической строгостью. Морис любил и умел нравиться, но сейчас он сам ощутил вдруг прилив теплой симпатии к этому странному существу со лбом философа и экстатическими глазами эль-грековских святых. Ему понравились его смиренная кротость, застенчивость и благородная сдержанность.