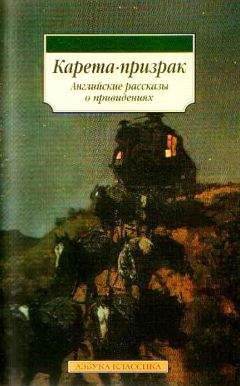На следующее утро вернулся Филип; я все рассказал ему в точности так, как описано выше. Все три недели, которые нам осталось провести в Полвизи, мы бдительно наблюдали, но ничего, что могло бы представить интерес для оккультиста, не увидели и не услышали. День за днем протекал в восхитительном безделье, мы купались, бродили без цели, по вечерам играли в пикет и между прочим подружились с викарием. Это был интересный человек, кладезь всяких любопытных сведений о местных преданиях и поверьях, а однажды вечером, когда наша дружба уже настолько окрепла, что викарий у нас отобедал, он задал Филипу прямой вопрос: не случалось ли нам, за время пребывания здесь, наблюдать что-нибудь необычное.
Филип кивнул в мою сторону.
— Да, особенно моему другу, — ответил он.
— А нельзя ли мне узнать, что́ это было? — попросил викарий. Выслушав мой рассказ, он некоторое время молчал. — Думаю, вы имеете полное право получить… объяснение, так, наверное, следует выразиться, — сказал наконец мистер Стивенс. — Если хотите, то я готов вам его дать.
Наше молчание было знаком согласия.
— Я помню, как встретил вас обоих на следующий день после вашего приезда сюда, — начал викарий, — и как вы спрашивали о надгробии на кладбище в память Джорджа Херна. Мне не хотелось тогда о нем говорить, а почему, вы сейчас узнаете. Я сказал, помнится (и на этом оборвал разговор), что похороненный там Джордж Херн — муж миссис Херн. Теперь вы, вероятно, догадываетесь: кое-что я тогда от вас скрыл. Возможно даже, вы сразу об этом догадались.
Он не стал ждать, пока мы подтвердим или опровергнем это предположение. Мы сидели на террасе в глубоких сумерках, и это скрадывало лицо рассказчика. Мы просто слушали голос, никому как будто не принадлежавший, чтение анонимной летописи.
— Здешнее имение, довольно значительное, досталось Джорджу Херну в наследство всего лишь за два года до смерти. Вскоре после этого он женился. И до, и после женитьбы жизнь он вел, как ни суди, порочную. Мне кажется — Господи, прости, если я не прав, — что он поклонялся злу, любил зло как таковое. Но в пустыне его души распустился цветок: любовь и преданность жене. И способность стыдиться.
За две недели до… смерти Джорджа Херна его жене стало известно, что́ он собой представляет и какую жизнь ведет. Умолчу о том, что́ конкретно она узнала, скажу одно: это было омерзительно. В то время она находилась здесь, а мистер Херн должен был в тот же день прибыть из Лондона. Приехав, он обнаружил записку от жены. Там говорилось, что жена от него уходит и не вернется никогда. Миссис Херн писала, что муж должен взять на себя вину при бракоразводном процессе, в противном случае она грозила ему разоблачением.
Мы с Херном были друзьями. В тот вечер он пришел ко мне с этой запиской, подтвердил, что сказанное в ней справедливо, но все же просил меня вмешаться. Херн говорил, что только жена может спасти его душу от вечных мук, и, кажется, был искренен. Как духовное лицо, я все же не причислил бы его к кающимся. Он возненавидел не сам грех, а только его последствия. Тем не менее у меня появилась надежда, что, если жена к нему вернется, он, возможно, будет спасен, и назавтра я отправился к ней. Все мои слова ее нисколько не поколебали, и мне пришлось вернуться ни с чем и объявить Херну, что моя миссия закончилась провалом.
По моему убеждению, человек, который питает к злу такое пристрастие, что сознательно предпочитает его добру, не может считаться умственно здоровым. Я уверен, что, когда жена отреклась от Херна, его хрупкое душевное равновесие было полностью нарушено. Оно поддерживалось только любовью к жене, но та — и я вполне ее понимаю — не желала иметь с ним ничего общего. Если бы вы знали то, что́ известно мне, вы бы тоже ее не осудили. Однако для Херна это стало окончательным крушением. Спустя три дня я отправил ей письмо. Там было сказано, что погибель мужа будет на ее совести, если она не пожертвует собой и не приедет. Миссис Херн получила это письмо на следующий вечер — слишком поздно.
В тот день, пятнадцатого августа, два года назад, в бухте прибило к берегу мертвое тело, и в тот же вечер Джордж Херн взял в огороде лестницу и повесился. Он взобрался на липу, привязал к суку веревку, сделал на конце скользящую петлю и опрокинул лестницу.
Тем временем миссис Херн получила мое письмо. Часа два она боролась с собой и наконец приняла решение вернуться. Она позвонила мужу по телефону, но экономка, миссис Криддл, могла сообщить только, что мистер Херн после обеда вышел. Миссис Херн звонила еще несколько раз на протяжении двух часов, но ничего нового не услышала.
В конце концов она положила не терять больше времени и приехала сюда на автомобиле из дома своей матери, что на севере страны. Луна уже взошла, и, выглянув из окна спальни мужа, миссис Херн его увидела. — Викарий помолчал. — На дознании, — продолжил он, — я с чистой совестью засвидетельствовал, что, по моему мнению, Джордж Херн был невменяем. Был вынесен вердикт «самоубийство в припадке умоисступления», и Херна похоронили на кладбище. Веревку сожгли, лестницу тоже.
Горничная принесла напитки. Пока она не ушла, мы молчали.
— А что вы скажете о телефонных звонках, которые слышал мой друг? — поинтересовался Филип.
На мгновение мистер Стивенс задумался.
— А не кажется ли вам, — спросил он, — что сильные чувства, вроде тех, какие испытывала миссис Херн, сохраняются, как будто в записи на пластинку, а человека с восприимчивой психикой можно сравнить с патефонной иглой? Игла соприкасается с пластинкой, и происходит воспроизведение. И может быть, так же обстоят дела и с этим несчастным самоубийцей. Трудно поверить, что его душа обречена год за годом возвращаться на то место, где он творил свои безумства и преступления.
— Год за годом? — спросил я.
— Да, судя по всему. Год назад я сам его видел, и миссис Криддл тоже. — Мистер Стивенс встал. — Кто знает? — сказал он. — Быть может, это искупление. Кто знает?
Хью Уолпол
МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
Привидения? Я взглянул через стол на Траскотта, и внезапно мне захотелось чем-нибудь его поразить. Траскотт всегда вызывал людей на откровенность одним и тем же способом: демонстрируя полную невозмутимость, явное безразличие к тому, говорите вы с ним вообще или нет, и совершенное равнодушие к вашим переживаниям и восторгам. Но в тот вечер он казался не столь невозмутимым, как обычно. Он сам завел речь о спиритизме, спиритических сеансах и, согласно его определению, прочем подобном вздоре, и неожиданно я увидел (или мне просто почудилось) действительное приглашение к разговору в глазах собеседника — нечто заставившее меня сказать самому себе: «Ладно, черт побери! Я знаю Траскотта почти двадцать лет. И никогда не пытался хоть в самой малой степени показать ему свое истинное лицо. Он считает меня пишущей машиной для производства денег, занятой мыслями единственно о собственной постыдной писанине да купленной на гонорары за нее яхте».