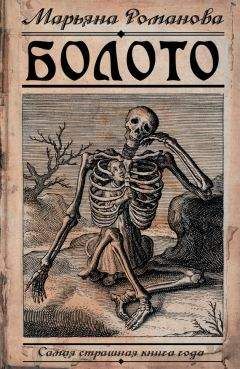Особенно много таких в девяностые приезжало, когда свобода слова, еще толком неопробованная на вкус, выплескивалась на газетные страницы миллионом небылиц. Об инопланетянах-похитителях много писали в те годы, о странных вирусах, найденных в египетских гробницах, о страшных проклятиях, ну и о ведьмах, конечно, тоже.
К Марфе приезжали и юные хиппушки, которые сами не знали, чего хотят, и неулыбчивые готессы с томиком Алистера Кроули под мышкой, и блаженные, и шизофреники.
Все они жаждали от Силы Марфиной отпить.
И никто слышать не хотел, что на самом деле жить с Силой – это проклятье.
Из окна своего ветхого дома Марфа грустно смотрела на девочку, плакавшую в соседнем дворе. Девочку, едва с Силой соприкоснувшуюся, но уже получившую от нее звонкую оплеуху. И она, Марфа, дура старая, отчасти виновата в этом – разглядела свет внутренний в неразумном ребенке, указала дорогу, вот и сгинула девочка. И что еще с нею будет, каких дел она успеет натворить до того, как Сила сожрет ее последний выдох.
– Одна девушка к колдовке старой пришла и говорит: научи меня, что сама умеешь. А та подвела ее к ручью, бросила в воду кусок хлеба. Налетели рыбы и начали горбушку на кусочки рвать. Девушка смотрит, а колдовка ей и говорит: если станешь такой, как я, силу получишь, но после смерти твою душу бесы рвать на кусочки будут, как эти рыбы хлеб.
– Я – сумею! – с самоуверенностью подростка быстро сказала Яна. – Если вы не сумели, это не значит, что и я не смогу, так ведь?
– Напоминаешь ты мне девицу одну, – покачала головой Марфа. – Уже больше, чем полвека, я ее не встречала. Наверное, и в живых ее нет давно. Аксиньей звали.
– Она тоже была… как вы?
– Она была другой, – вздохнула старуха. – Сильнее меня. Всегда знала, что делать надо.
– И как она умерла?
Перед Марфой как наяву встала Аксинья упокоившаяся, рот окровавленный скалится, шея выгнута, как у волка, который завыть на небо хочет.
– Не надо об этом, девочка. Не люблю я это вспоминать. Поворачивайся сейчас и домой ступай, спать ложись.
– А как же…
– Посмотри на небо, от луны огрызок остался! – строго сказала старуха. – Кто ходит в лес по такой луне. Тебе надо полную дождаться.
* * *
Собирались девки тайно на поляне у речки, костры майские жгли. Луна полная по реке плывет, да не уплывает; воздух днем уже солнцем согрет, а к ночи кожу голую морозит.
На поляне густо пахло жженой полынью и сосновыми щепками, девки хохотали да через костер прыгали, а потом каждая к огню лицо склоняла и слова запретные пламени шептала. Слова те, в пепел обратившись, улетали к небу. Одна слишком низко наклонилась – ей брови и ресницы опалило, ни одного словечка выдавить не успела – вот визгу-то было!
Одна из тех девиц давно полюбилась местному пастуху. Он даже свататься приезжал, но девушка только над ним посмеялась. Но не отступил от своего пастух, он думал – время все расставит, привыкнет девчонка, слюбится. Молодая она совсем еще была, тем летом ей должно было исполниться пятнадцать.
Однажды заметил пастух: невеста его неназванная по ночам тайком куда-то уходит, крадется огородами. В одну ночь он собрался и девку выследил, застал шабаш у реки. И сперва залюбовался – пляшут голые, не стыдясь, и кожа их в свете костра так красиво золотится. А его любимая – лучше всех, ноги крепкие, грудь тяжелая, пшеничные завитки в подмышках и паху, влажные от пота. А потом одна из девиц, самая старшая, носом повела, как животное, и сказала:
– Чужой среди нас! Вон там он, в траве прячется!
Пастух ничего сделать не успел, девки его поймали, раздели, на землю опрокинули. Он отбиваться пробовал, но их много, и руки у них оказались не по-женски сильными. Распяли беднягу на земле – руки придавили и ноги, смотрят в лицо и куражатся.
– Ну, что с этим сделаем?
– Давайте свяжем его и в реку бросим! Никогда не найдут.
– Молодой какой – в речку жалко… Но наглый – испортил нам праздник.
– А мы ему кишки выпустим и к дереву так привяжем – лисицы соберутся и заживо его съедят!
– Или заколдуем его – памяти лишим и полусобакой сделаем! Будет голым на четвереньках по деревням скакать, лаять и народ пугать, пока его кто-нибудь не пристрелит!
Самая старшая – та, что его заметила, склонилась над ним совсем низко – так что ее волосы щекотали обнаженную грудь пастуха. Лет ей было уже под пятьдесят. Тело ее сохранилось молодым, а вот лицо разлиновали морщинки. Она была похожа на цыганку – блестящие черные глаза и нос крючком. Она принюхалась к сбившемуся дыханию пастуха.
– Молоком пахнет… Жалко мне его. Возьму я его себе, тело тешить, – и уселась сверху на пастуха. Потянулась бесстыдно, бедрами по его ногам елозит.
Пастух пробормотал:
– Не буду я с тобой, отстань! Невеста у меня есть.
– Эта, что ли?! – визгливо расхохоталась крючконосая. – Настя, выходи, признавайся – твой женишок? Если твой, мы его отпустим!
И девушка, которую пастух не первый год глазами провожал, тоже смеялась, глядя в его лицо, и отвечала:
– Нету у меня никакого жениха, знать я его не знаю. Делайте с ним всё, что душе угодно.
– Вот видишь… – Цыганистая женщина его по носу легонько щелкнула. – Ты в глаза мне, милый мой, смотри! Не отрывай взгляд! Тогда тебе даже понравится.
У пастуха и не получалось взгляд оторвать – как будто бы околдовала его та женщина. Глаза ее на половину неба разрослись, из малиновых губ парок поднимался, хотя ночь не такой уж прохладной была, отсветы пламени плясали на ее впалых щеках, а ее крупные ноздри раздувались как у лошади. Она прыгала на нем, и пусть это было сладко – на грани присутствия бога, – но пастух чувствовал, как с каждой секундой силы его покидают и отходят той женщине.
Ему становилось трудно дышать, а она как будто бы на глазах молодела, ее птичий профиль теперь смотрелся почти нежным, из черт ушла резкость. У пастуха голова болела так, словно в ней змеи гнездо устроили. В конце концов, силы покинули его, звезды заплясали перед глазами, а лицо мучительницы стало мутным.
Когда он пришел в себя, солнце уже встало, и был он на той поляне один. До костей продрогший, голый и слабый. Одежда нашлась неподалеку – была аккуратно сложена у еще теплого пепелища. Еле добрел пастух до своего дома, рухнул на кровать, спал три дня и три ночи. А потом оправился, вышел в люди – посеревший и худой, и сразу любимую свою, Настю, увидел. Та мимо прошла – не посмотрела даже. И такая злость его с головой накрыла, что пошел он и все рассказал деревенским про ведьм. Имена их назвал.
Все пастуху поверили, потому что про ту крючконосую цыганистую женщину давно молва по деревням ходила. К судье обращаться не стали – изловили девок, на которых пастух указал, заперли в сарае, а пока те плакали, о пощаде молясь, вырыли за деревней огромную глубокую яму. Потом всех пленниц к ней привели и велели молиться, и все они, рыдая, клялись, что ни при чем они, оговорил их пастух. И только крючконосая молчала, а перед тем, как ее вместе с другими в могилу общую столкнули, посмотрела в глаза пастуху и сказала: