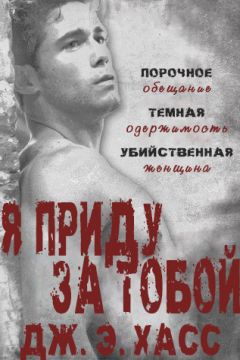– И что нам теперь делать? – наконец спросила Дженева.
– Я не знаю.
– Я тоже. Но мы не можем бездействовать.
– Не можем. Мне надо подумать.
– Я пыталась, – призналась Дженева, – но голова у меня пошла кругом, и я даже испугалась, что от нее что-то отвалится. Девочка такая милая.
– Она и сильная. Она знает, что сможет выкрутиться.
– Ой, маленькая мышка, наверное, я не в своем уме, если позволила ребенку вернуться в тот дом.
Дженева не называла ее «маленькой мышкой» лет пятнадцать.
От этого ласкового прозвища у Микки перехватило горло, и глоток лимонной водки так и остался во рту, а когда водка полилась вниз, то вдруг стала густой, как сироп.
Она не знала, сможет ли говорить, но после паузы слова начали срываться с губ:
– Они бы пришли за ней, тетя Джен. И сегодня мы ничего не смогли бы сделать.
– Это правда, не так ли, все, что она здесь наговорила? Не то что моя встреча с Алеком Болдуином в Новом Орлеане?
– Правда.
Ночь отдавала тепло, накопленное за августовский день. Жара не отпускала, хотя солнце давно уже зашло.
Теперь паузу выдержала Дженева.
– Я говорю не только о Лайлани.
– Я знаю.
– О чем-то сегодня шла речь, что-то предполагалось.
– Лучше бы ты всего этого не слышала.
– Лучше бы я услышала об этом, когда могла тебе помочь.
– Это было так давно, тетя Джен.
Гул транспортного потока напоминал теперь приглушенное гудение насекомых, словно нутро земли превратилось в гигантский улей, и растревоженный рой мог в любой момент вырваться на поверхность и наполнить воздух злым хлопанием бесчисленных крыльев.
– Я видела твою мать со множеством мужчин. Она никак не могла… угомониться. Я знала, что для девочки это не лучшее окружение.
– Забудь об этом, тетя Джен. Я забыла.
– Ты не забыла. На тебя это давит.
– Ладно, может, и не забыла, – сухой, горький смешок. – Но делала все, что могла, чтобы забыть. – Микки попыталась смыть водкой вкус этого признания, но безуспешно.
– Некоторые из дружков твоей матери…
Только тетя Джен, последняя из невинных, могла назвать дружками… этих хищников, париев, гордящихся тем, что отвергли все моральные ценности и обязательства, превратившихся в паразитов, для которых кровь других – сок жизни.
– Я знала, что они неверные, бездушные.
– Мама любила плохишей.
– Но я и представить себе не могла, что один из них… что ты…
Слыша свой голос, Микки безмерно удивлялась, что ведет такие разговоры. До появления Лайлани она и представить себе не могла, что поделится с кем-либо своим прошлым. Теперь же ее ничего не останавливало.
– Не один. Мамаша таких притягивала… не все, конечно, но куда больше, чем один… и они всегда чувствовали, что есть возможность поживиться.
Дженева наклонилась вперед, ее плечи поникли, словно сидела она на церковной скамье и не хватало только подставочки для колен.
– Они смотрели на меня и сразу все чувствовали. Их губы изгибались в особой улыбке, по которой я знала, что меня ждет. Я боялась, а мама ничего не желала знать. Эта улыбка… не гнусная, как ты могла бы ожидать, скорее с грустинкой, словно они понимали, что все будет легко, а им бы хотелось преодолеть хоть какие-то препятствия на пути к цели.
– Она не могла знать, – фраза прозвучала скорее как вопрос, а не утверждение.
– Я говорила ей не один раз. Она наказывала меня за ложь. Но знала, что я говорю правду.
Дженева прикрыла лицо руками, словно тень не служила достаточным щитом, словно она нашептывала признание в личной исповедальне своих рук.
Микки поставила запотевший стаканчик с водкой на пробковую подставку, чтобы не оставлять пятен на тумбочке.
– Своих мужчин она ценила больше, чем меня. Рано или поздно она всегда от них уставала и всегда знала, что устанет, рано или поздно. Но пока она не решала, что пора сменить кавалера, пока не выгоняла каждого из этих мерзавцев, она заботилась обо мне меньше, чем о сожителе, и меньше, чем о новом мерзавце, который сменял прежнего.
– И когда это прекратилось… если прекратилось? – вопрос Дженевы едва просочился сквозь загородку пальцев.
– Когда я перестала бояться. Когда я стала достаточно большой и злой, чтобы поставить точку. – Микки вытерла о простыню ладони, холодные и влажные от конденсата, образовавшегося на стаканчике. – Мне было почти двенадцать, когда это закончилось.
– Я не знала, – жалобно простонала Дженева. – Понятия не имела. Не подозревала.
– Я это знаю, тетя Джен. Знаю.
Голос Дженевы дрожал.
– Господи, какой же я была слепой, безмозглой дурой.
Микки перекинула ноги через край кровати, придвинулась к тетушке, обняла ее за плечи.
– Нет, дорогая. Не клевещи на себя. Ты была хорошей женщиной, слишком хорошей и слишком доброй, чтобы представить себе такую низость.
– Наивность не может служить оправданием, – она опустила руки, переплела пальцы. – Может, я была глупой, потому что сама того хотела.
– Послушай, тетя Джен, в те годы я не сошла с ума только потому, что у меня была ты, такая, как ты есть.
– Не я, не слепая, как летучая мышь, Дженева.
– Благодаря тебе я знала, что на свете есть достойные люди, а не только отребье, с которым якшалась моя мать. – Микки всегда пыталась удержать слезы в глубинах сердца, и до встречи с Лайлани ей это удавалось, но теперь, похоже, в резервуаре образовалась щель, которая расширялась с каждой минутой. Глаза затуманились, голос задрожал. – Я могла надеяться… что когда-нибудь тоже стану достойным человеком. Как ты.
Дженева не отрывала глаз от переплетенных пальцев.
– Почему же ты не пришла ко мне, Микки?
– Страх. Стыд. Я чувствовала, что меня вываляли в грязи.
– И ты молчала все эти годы.
– Не из страха. Но… мне казалось, что я никак не отмоюсь от всей этой грязи.
– Сладенькая, ты ведь жертва, тебе нечего стыдиться.
– Но в грязи-то меня вываляли. И я думала… Боялась, если заговорю об этом, злость покинет меня. Злость помогала мне выжить, тетя Джен. Лишившись злости, с чем бы я осталась?
– С душевным покоем, – Дженева подняла голову и наконец-то встретилась с Микки взглядом. – С душевным покоем, и, видит Бог, ты его заслуживаешь.
Микки на мгновение закрыла глаза. Искренняя любовь Дженевы вызвала в ней такую бурю эмоций, что она даже испугалась.
Дженева прижалась к Микки, обняла ее. Теплота голоса успокаивала даже больше, чем руки.
– Маленькая мышка, ты была такая умненькая, такая сладенькая, веселая, жизнерадостная. И все это по-прежнему в тебе. Никуда не делось. Все надежды, любовь, доброта, они в твоем сердце. Никто не может отнять то, что даровано Господом. Только ты сама можешь выбросить их, маленькая мышка. Только ты сама.