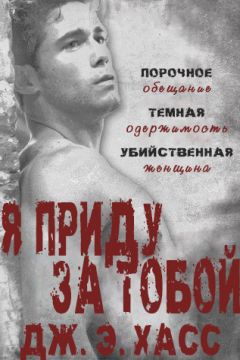Позже, когда тетя Джен ушла в свою комнату, Микки вновь уселась, привалившись спиной к поставленным горкой у изголовья подушкам. Изменилось все… и ничего.
Августовская жара. Застывшая темнота. Далекий гул автострады. Лайлани под одной крышей с матерью, ее брат в одинокой лесной могиле в Монтане.
Если что изменилось, так это надежда: надежда на перемены, вчера казавшиеся невозможными, а сегодня перешедшие в категорию всего лишь невозможно трудных.
Никогда раньше она не решалась касаться того, о чем поговорила с Дженевой, и откровения облегчили ей душу. Шипы терновника, в которых билось ее сердце, причиняли меньше боли, они словно чуть раздвинулись, но еще оставались, эти шипы, ужасные воспоминания, не желающие кануть в Лету.
Допивая растаявший лед из пластикового стаканчика, она решила отказаться от второй порции водки, которую обещала себе. Она не могла вот так легко отделаться от уничтожающей ее злости и стыда, но полагала, что бросить пить ей по силам и без программы «Двенадцать шагов».
В конце концов, алкоголичкой она не была. Не пила и не испытывала потребности пить каждый день. Стресс и презрение к себе – вот бармены, которые обслуживали ее, и в тот момент она чувствовала, что вполне может обойтись без них.
Надежда, однако, являлась необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы наметившиеся перемены обрели реальные очертания. Надежда – это протянутая рука, но требовались две руки, чтобы вытащить тебя из глубокой ямы. Второй рукой была вера… вера, что надежда эта не тщетная. И пусть надежда крепла, о вере она такого сказать не могла.
Без работы. Без перспектив. Без денег на банковском счету. С «Камаро» модели 81-го года, который внешне напоминал чистокровного скакуна, но на деле больше походил на выбившуюся из сил тягловую лошадь.
Лайлани в доме Синсемиллы. Лайлани, с каждой секундой приближающаяся к последнему в ее жизни дню рождения. И мальчик с вывернутыми суставами, брошенный в могилу, с застывшей на маленьком ротике последней мольбой о пощаде…
Микки не осознавала, что поднялась с кровати, чтобы налить вторую порцию водки, пока не оказалась рядом с комодом. Бросила в стаканчик кубики льда, свернула крышку с горлышка, замялась, но потом все-таки налила водку.
Чтобы помочь Лайлани, требовалось мужество, но Микки не обманывала себя мыслями о том, что это самое мужество можно найти в бутылке. Без ясного ума не представлялось возможным разработать план действий и следовать ему, а она прекрасно знала, что водка только туманит голову.
Но она сказала себе, что сейчас, как никогда раньше, ей требовалась злость, ибо именно злость закалила ее и позволила выжить. Спиртное служило горючим для злости, так что теперь она пила ради Лайлани.
Позже, наливая в стаканчик третью порцию, побольше двух первых, она вновь руководствовалась той же ложью. Это не водка для Микки. Это злость, благодаря которой Лайлани сможет обрести свободу.
По крайней мере она знала, что оправдание – ложь. Полагала, что неспособность обмануть себя может стать для нее спасением. Или проклятием.
Жара. Темнота. Время от времени влажное дребезжание в ведерке тающих кубиков льда. И непрекращающийся гул автострады, урчание двигателей и шуршание шин по асфальту. Гул, который можно принять как за голос надежды, так и за ее предсмертный стон.
Иной раз Синсемилла воняла, словно прокисшая шинкованная капуста. Случалось, что благоухала, как роза. В понедельник она могла пахнуть апельсинами, во вторник – корешками сельдерея, в среду – цинком и порошковой медью, в четверг – фруктовым пирогом, этот запах Лайлани нравился больше всего.
Синсемилла с давних пор практиковала ароматерапию и верила, что лучший способ выведения токсинов из тела – горячая ванна с тщательно подобранным ароматическим комплексом. Она возила с собой такое количество самых разнообразных ароматических компонентов, предназначенных для добавления в воду, что любой горожанин Средневековья сразу признал бы в ней алхимика или колдунью. Экстракты, эликсиры, настойки, масла, эссенции, квинтэссенции, композиции с цветочным запахом, соли, концентраты и дистилляты наполняли множество поблескивающих флакончиков и склянок, которые хранились в двух специальных ящиках, каждый из них размерами не уступал «самсониту»[44] на два костюма. Оба ящика стояли в попахивающей плесенью ванной.
Лайлани знала, что многие интеллигентные, психически здоровые, ответственные и, главное, хорошо пахнущие люди использовали ароматерапию для выведения токсинов. Однако она отказывалась от ароматических ванн по той самой причине, которая удерживала ее от участия в любых начинаниях матери, даже в тех, что казались забавными. Она опасалась, что первый шаг к удовольствиям Синсемиллы, к примеру, ванна с растворенными в воде маслом кокоса и эссенцией масла какао, станет первым шагом по скользкому откосу, ведущему к наркотической зависимости и безумию. Кто бы ни был ее отцом, Клонк или не Клонк, насчет матери никаких сомнений не возникало, а потому ей следовало соблюдать предельную осмотрительность, чтобы гены не превратились в определяющий фактор ее судьбы.
Кроме того, Лайлани не хотела расставаться со своими токсинами. С ними ей было уютно. Ее токсины, собранные за девять лет жизни, стали ее неотъемлемой частью, возможно, более важной для личностной идентификации, чем полагала медицинская наука. Вдруг полное избавление от токсинов привело бы к тому, что однажды утром она проснулась бы не Лайлани, а папой римским или чистой и святой девушкой по имени Гортензия? Она ничего не имела против папы или чистой и святой девушки по имени Гортензия, но куда больше ей хотелось оставаться Лайлани, с родинками, деформированными ногой и рукой, необычайно развитым мозгом… даже если ради этого приходилось мириться с токсинами.
Вместо ванны она приняла душ. Из мыла она остановилась на «Айвори», вполне хватило, чтобы смыть змеиный ихор с ее рук, с тела – пот, а с лица – остатки соленых слез, которые претили ей больше, чем змеиная слизь.
Мутанты не плачут. Особенно опасные мутанты. Не след ей выходить из образа.
Обычно она душу предпочитала ванну, правда, ароматизация не шла дальше «Айвори». Часто в ванне оказывался борец сумо и профессиональный киллер по имени Като, она мстила ему за все унижения, которым ее подвергали мать и доктор Дум. В эту ночь, несмотря на выходку Синсемиллы, у Лайлани не было желания мучить Като.
Душ представлял собой бо́льшую опасность, чем ванна. Если она снимала с ноги ортопедический аппарат, скользкая поверхность и всего одна здоровая нога могли привести к падению.