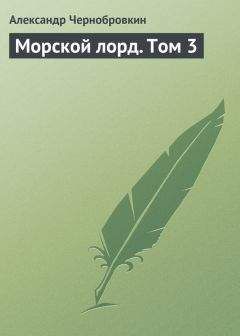— Да, в общем… звони мне.
— Кит Кэпстик, — не унималась мать. — Он был другим. Киф, так ты называла его, потому что не выговаривала «т», маленькая тупица. Киф Кэтсик. Конечно, ты не специально. Но его все равно бесило. Киф Кэтсик. Он тебя не раз шлепал.
— Правда?
— Он говорил, я с нее шкуру спущу, я ей покажу, где раки зимуют. Конечно, если б не Кит, тот пес перегрыз бы тебе горло. Зачем ты вообще пустила его в дом?
— Не знаю. Уже не помню. Наверное, хотела завести зверушку.
— Зверушку? Это были не зверушки. Это были бойцовые псы. О чем тебя предупреждали. О чем тебя сто раз предупреждали и что Кит пытался тумаками вколотить в твою тупую башку. Но у него ни черта не вышло, так? На кой ты открыла заднюю дверь? После этого ты таскалась за Китом как привязанная, после того как он оттащил от тебя пса. Наглядеться на него не могла. Называла его папочкой.
— Да, я помню.
— Он сказал, еще хуже, чем Кэтсик, то, что она зовет меня папочкой, я не хочу быть ее папочкой, я придушу мелкую кретинку, если она не отвалит. — Эмми хихикнула. — И придушил бы. Он, Кит, в свое время придушил кое-кого.
Пауза.
Эл прижала руку к горлу.
— Понятно. И ты бы хотела снова встретиться с Китом, так? С ним было весело, да? И всегда деньжата водились?
— Не у него, а у Айткенсайда, — уточнила мать. — Боже правый, девочка, у тебя вечно в голове все путается. Не знаю, узнала бы я Кита или нет, если б он заглянул сегодня. Вряд ли, после той драки-то, его так покалечили, что не знаю, признана ли бы я его. Я помню ту драку, как сейчас вижу — у старого Мака повязка на глазу, а я совершенно сбита с толку и не знаю, на кого смотреть. Мы не знали, за кого болеть, понимаешь? Понятия не имели. Моррис сказал, что ставит пятерку на Кита, он сказал, я лучше поставлю на кастрата, чем на одноглазого. Он поставил пятерку на Кита, ох, он не на шутку разозлился, когда тот проиграл. Я помню, как потом они говорили, что у Макартура, наверное, было лезвие в кулаке. Однако ты бы знала, гак? Ты все знала о лезвиях, маленькая сучка. Иисусе, как же я выпорола тебя, когда нашла те штуки у тебя в кармане.
— Нажми на стоп, ма.
— Что?
— Нажми на стоп и перемотай назад.
Она подумала, они вынули мою волю и заплатили матери за разрешение. Она взяла деньги и положила в ту старую треснутую вазу, которая стояла на верхней полке буфета, слева от печки.
— Эл, ты еще здесь? — спросила ма. — Я тут думаю, откуда нам знать, может, Киту подлатали лицо. В наши дни чудеса творят, верно? Он мог изменить внешность. Было бы забавно. Может, он живет за углом. А мы никогда и не узнаем.
Еще одна пауза.
— Элисон?
— Да… ты еще принимаешь таблетки, ма?
— Время от времени.
— Ты ходишь к врачу?
— Каждую неделю.
— А в больнице ты лежала?
— Ее закрыли.
— Деньги есть?
— На жизнь хватает.
Что еще сказать? Вообще-то нечего.
— Я скучаю по Олдершоту, — призналась Эмми. — Жаль, что я вообще переехала сюда. Здесь даже поговорить не с кем. Убогие людишки. Ни разу не веселилась с тех пор, как перебралась сюда.
— Может, тебе стоит чаще выходить из дома.
— Может быть. Да только не с кем, вот в чем беда. К тому же, говорят, в одну реку не войдешь дважды.
После долгой паузы, когда Эл уже собиралась попрощаться, мать спросила:
— Ну и как твои дела? Пашешь как пчелка?
— Да. Насыщенная неделя.
— Понятное дело. Из-за принцессы. Какая жалость, правда? Я всегда думала, что у нас много общего, у меня с ней. Много разных парней и печальный конец. Как по-твоему, у нее все было бы хорошо с Доди?
— Не знаю. Без понятия.
— Мальчики тебе никогда не нравились, а? По-моему, тебя от них тошнит.
— С чего ты взяла?
— Да ладно, сама знаешь.
— Нет, не знаю.
Она хотела сказать: «Я не знаю, но очень хочу узнать, хочу пролить свет, ты сказала мне немало такого, что я…», но Эмми перебила ее:
— Мне пора. Газ вытекает. — И положила трубку.
Эл уронила трубку на одеяло. Опустила голову на колени. Пульс колотится — на шее, в висках, на кончиках пальцев. Ладони покалывает. Давление подскочило, решила она. Меньше надо жрать пиццу. Она ощутила слабую, сочащуюся ярость, как будто что-то внутри ее треснуло и черная кровь потихоньку идет горлом.
Мне нужна Колетт, подумала она. Колетт защитит меня. Мне нужно сесть рядом с ней и уставиться в телевизор, неважно, что она смотрит, что бы она ни смотрела, все сгодится. Я хочу быть нормальной. Я хочу полчасика побыть нормальной, как все, насладиться сводкой с похорон, прежде чем Моррис опять заведет волынку.
Она открыла дверь спальни и вышла в небольшой квадратный холл. Дверь гостиной была закрыта, но хриплый смех сотрясал комнату, где Колетт, как она знала, шевелила пятками в носочках. Чтобы не слышать кассету, Колетт включила телевизор погромче. Естественно, совершенно естественно. Она хотела было постучаться. Но нет, нет, не стоит портить ей удовольствие. Эл повернула прочь. И тут объявилась Диана: вспышка в зеркале холла, проблеск. Через мгновение она превратилась в заметное розовое сияние.
Диана облачилась в подвенечное платье, теперь оно на ней висело — принцесса исхудала, а платье было мятым и каким-то драным, словно его протащили по галереям загробного мира, где хозяйство, понятное дело, ведется не лучшим образом. Она приколола к юбкам вырезки из газет, и они колыхались на потустороннем ветру. Диана сверялась с ними, задирая юбки и вчитываясь; но, по мнению Элисон, изрядно косила.
— Передай моим мальчикам, что я люблю их, — сказала Диана. — Моим мальчикам, уверена, ты знаешь, о ком я.
Эл не подсказывала ей: никогда нельзя уступать мертвым. Они будут приставать и надоедать, будут намекать и льстить, но нельзя поддаваться на их уловки. Хотят говорить — пусть говорят сами с собой.
Диана топнула ногой.
— Ты знаешь их имена, — обвинила она. — Ты, мерзкая маленькая вонючка, гадина. Вот засранство! Как же их зовут?
Так иногда случается с умершими: память покидает их почти сразу. Вообще-то это благословение Божье. Не стоит звать их, когда они решили уйти. Они не такие, как Моррис и компания, — они не пытаются вернуться, не хитрят и не строят планы возрождения, не висят на дверном звонке, не стучат в окно, не скребутся в твоих легких, не вылетают с дыханием.
Диана опустила глаза. Они закатились под голубыми веками. Ее накрашенные губы пытались нащупать имена.
— На кончике языка вертятся, — пожаловалась она. — Да ладно, какая разница. Скажи им, ведь ты же знаешь. Передай, что я люблю его… Корольку. И второму ребенку. Корольку и Кактамльку.
За ее спиной вспыхнуло ядовитое зарево, как будто пожар на химической фабрике. Она уходит, подумала Эл, она тает, превращаясь в ничто, в отравленный пепел на ветру.