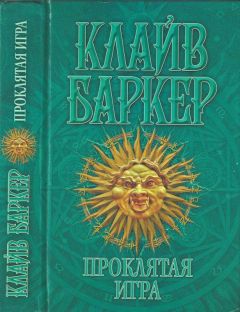— Да, я понимаю.
— Более того, если по каким-либо причинам ваши отношения с мистером Уайтхедом не сложатся, если один из вас почувствует, что работа вам не подходит, я боюсь…
— Что я отправлюсь обратно отбывать срок.
— Да.
Последовала неприятная пауза, Той тихо вздохнул. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы восстановить равновесие, затем он сменил тему:
— Я должен задать вам несколько вопросов. Вы занимались боксом, я не ошибаюсь?
— Да. Когда-то занимался.
Той выглядел разочарованным.
— Вы бросили?
— Да, ответил Марти. — Еще я занимался штангой.
— Владеете вы каким-нибудь видом самообороны? Дзюдо? Каратэ?
Марти хотел солгать, но какой смысл? Той все узнает у администрации Уондсворта.
— Нет, — ответил он.
— Жаль.
У Марти засосало под ложечкой.
— Но я достаточно здоров, — сказал он — И силен. Я могу научиться.
Он почувствовал, что его голос невольно задрожал.
— Боюсь, ученик вам не требуется, — вмешался Сомервейл, едва скрывая злорадство.
Марти наклонился через стол, стараясь забыть о присутствии пиявки-тюремщика.
— Я справлюсь с этой работой, мистер Той, — настойчиво произнес он. — Я знаю, что справлюсь. Дайте мне шанс.
Дрожь нарастала, живот свело. Лучше остановиться, пока он не сказал ничего лишнего. Но он не мог.
— Дайте мне возможность доказать. Ведь я прошу немного. Если я не справлюсь, это будет моя вина, правда? Только один шанс. Вот все, о чем я прошу.
Лицо Тоя выражало нечто вроде сочувствия. Неужели нее кончено? Неужели он передумал — один неверный ответ, и все испорчено, — и теперь мысленно закрывает свой портфель и возвращает дело Штрауса М. в липкие руки Сомервейла, чтобы тот похоронил папку между делами других заключенных?
Марти стиснул зубы и опустился в неудобное кресло, уставившись на свои дрожащие руки. Он не мог смотреть на побитую элегантность лица Тоя. Особенно теперь, когда так раскрылся. Той увидел бы в его глазах боль и надежду, а Марти не вынес бы этого.
— На вашем суде… — заговорил Той.
Ну что еще? Зачем он продолжает эту пытку? Марти сейчас хотел одного: вернуться в камеру, где Фивер сидит на койке и играет со своими куколками, где знакомая скука и монотонность укроют его. Но Той не спешил. Он хотел знать правду, полную правду и ничего, кроме нее.
— На суде вы заявили, будто личным мотивом для вовлечения вас в ограбление были игорные долги. Я прав?
Марти перенес свое внимание с рук на ботинки. Шнурки развязались. Они были достаточно длинными, чтобы завязать двойной узел, но у Марти никогда не хватало на это терпения. Ему нравились простые узлы. При необходимости можно легко потянуть за конец шнурка, и узел исчезал, как по волшебству.
— Это правда? — снова спросил Той.
— Да, это правда, — ответил Марти. Он зашел слишком далеко, так почему не завершить историю? — Нас было четверо. И два ствола. Мы хотели взять инкассаторский фургон. Все пошло из рук вон плохо. — Он поднял глаза, Той внимательно смотрел на него. — Водитель получил пулю в живот. Потом умер. Об этом есть запись в моем деле, не так ли?
Той кивнул.
— А про фургон? Это тоже есть в деле?
Той не ответил.
— Он оказался пустым, — продолжал. Марти. — Мы ошибались с самого начала. Эта хрень была пустой.
— А долги?
А?
— Ваши долги Макнамаре. Вы все еще должны ему? Парень уже действовал Марти на нервы. Какое дело Тою, должен он кому-то здесь или нет? Никакого; это прикрытие, чтобы с достоинством удалиться.
— Отвечайте мистеру Тою, Штраус, — потребовал Сомервейл.
— А какое вам дело…
— Мне интересно, — искренне ответил Той.
— Понятно.
Засунь свой интерес себе в задницу, подумал Марти. Они уже услышали его исповедь и получили намного больше, чем предполагалось.
— Я могу идти? — спросил Марти.
Он взглянул на них. Не Той, а Сомервейл ухмылялся в дыму своей сигареты, довольный тем, что беседа потерпела крах.
— Полагаю, да, Штраус, — ответил он. — Если у мистера Тоя больше нет вопросов.
— Нет, — глухо отозвался Той. — Нет, я полностью удовлетворен.
Марти поднялся, все еще избегая смотреть Тою в глаза. Маленькая комната заполнилась отвратительными звуками: скрежет ножек стульев по полу, резкий кашель Сомервейла. Той записывал что-то в блокнот. Все кончено. Сомервейл сказал:
— Вы можете идти.
— Было очень приятно познакомиться с вами, мистер Штраус, — проговорил Той в спину Марти, когда тот подошел к двери.
Марти повернулся. Он никак не ожидал, что Той улыбнется ему и протянет ладонь для рукопожатия. Марти кивнул и взял его руку.
— Спасибо, что уделили мне время, — закончил Той.
Марти закрыл за собой дверь и отправился в камеру в сопровождении надзирателя Пристли.
Он смотрел на птиц, пикирующих с крыши здания на землю в поисках лакомых кусочков. Они прилетали и улетали когда хотели, они строили гнезда, они принимали свободу как данность. Марти не заведовал им ни капли. А если и завидовал, то сейчас было не время распускаться.
Прошло тридцать дней, ни от Тоя, ни от Сомервейла ничего не было слышно. Да Марти и не особенно ждал. Возможность упущена, он сам поставил на ней крест, отказавшись говорить о Макнамаре. Поэтому он пытался задавить надежду в зародыше. Но забыть разговор с Тоем он не мог, как ни пытался. Случившееся выбило его из колеи, и последствия были столь же удручающими, как и причина. Марти думал, что постиг искусство безразличия путем болезненного опыта; так дети узнают, что горячая вода обжигает.
Этого опыта у него хватало в избытке. Первые двенадцать месяцев заключения он боролся со всем миром и с каждым, кто попадался ему на пути. Он ни приобрел ни друзей, ни влияния на систему; в итоге получил лишь синяки и плохие воспоминания. На второй год, раздосадованный поражением, он начал собственную войну: принялся качать мускулы и боксировать. Он решил создать тело, которое поможет ему взять реванш. Но в середине третьего года в его жизнь вошло одиночество, прежде заглушаемое мышечной болью после множества мучительных упражнений (мускулы развивались день за днем, преодолевая и отодвигая болевой порог). В тот год он примирился с самим собой и с тюрьмой. Это было нелегкое примирение, но после него все пошло на лад. Теперь Марти чувствовал себя как дома в гулких коридорах, в камере и в том маленьком, постоянно сужающемся пространстве в собственной голове, где самые приятные впечатления превращались в отдаленные воспоминания.