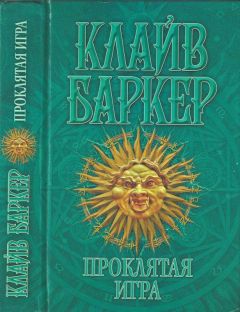— Все это бред, — сказала она.
— Да.
— Я просто хочу разобраться. — Она бросила на часы слишком быстрый взгляд, чтобы увидеть время, и встала — Я, пожалуй, пойду, Марти.
— Свидание?
— Нет… — ответила она. Явная ложь; она и не старалась скрыть это. — Надо купить чего-нибудь. Всегда меня успокаивает. Ты ведь меня знаешь.
«Нет, — подумал он. — Я не знаю тебя. Если когда-то и знал, в чем я сомневаюсь, то другую тебя. И боже, как же мне ее не хватает».
Он прервал себя. С Шармейн нельзя так расставаться, он знал это по опыту прошлых встреч. Представление нужно закончить прохладно, на формальной ноте, чтобы вернуться в камеру и забыть ее до следующего раза.
— Я хотела, чтобы ты понял, — сказала она. — Но не думаю, что смогла объяснить. Такой чудовищный бред.
Она не попрощалась, слезы полились снова. Марти был уверен, что после разговора с юристами она боялась сдаться в последний момент — от жалости, любви или отчаяния; и когда уходила не оглядываясь, она отгоняла от себя эту возможность.
Расстроенный, он вернулся в камеру. Фивер спал, прилепив слюной себе на лоб выдранное из журнала изображение вульвы; любимое развлечение. Как третий глаз над сомкнутыми веками, картинка таращилась и таращилась в пространство без надежды заснуть.
— Штраус?
В дверном проеме, всматриваясь вглубь камеры, стоял Пристли. Позади него на стене какой-то остряк нацарапал: «Если у тебя встал, стучи в дверь — дырка придет». Старая хохма; Марти читал подобные надписи на стенах многих камер, но теперь, при виде толстой физиономии Пристли, это сопоставление — враг и женский орган — поразило его своей непристойностью.
— Штраус?
— Да, сэр.
— Мистер Сомервейл хочет тебя видеть около трех пятнадцати. Я приду за тобой. Будь готов через десять минут.
— Да, сэр.
Пристли повернулся, чтобы уйти.
— А вы не скажете мне зачем, сэр?
— Откуда я знаю?
Сомервейл ждал в кабинете в три пятнадцать. Дело Марти лежало перед ним на столе. Рядом — пухлый конверт без маркировок. Сам Сомервейл стоял перед зарешеченным окном и курил.
— Войдите, — сказал он.
Приглашения сесть не последовало, он даже не повернулся.
Марти закрыл за собой дверь и стал ждать. Сомервейл с шумом выпустил дым через ноздри.
— Ну и что вы предполагаете, Штраус? — произнес он.
— Простите, сэр?
— Я спросил, что вы предполагаете?
Марти не ответил; он пытался понять, кто из них двоих испытывает неловкость. После паузы длиной в век Сомервейл произнес:
— Моя жена умерла.
Марти пытался понять, чего от него ждут, но Сомервейл не дал ему времени сформулировать ответ. После тех трех слов он произнес еще четыре:
— Они выпускают вас, Штраус!
Он поместил голые факты рядом, словно они связаны, словно весь мир в сговоре против него.
— Я поеду с мистером Тоем? — спросил Марти.
— Он и члены комиссии по досрочному освобождению решили, что вы — самый подходящий кандидат для работы в поместье Уайтхеда, — ответил Сомервейл. — Вообразите! — Он издал громкий горловой звук, обозначавший смех. — За вами, конечно же, будут внимательно наблюдать. Не я, но кто-то другой. И если однажды вы сделаете неверный шаг…
— Я понимаю.
— Сомневаюсь. — Сомервейл потянулся за сигаретой, по-прежнему не оборачиваясь. — Сомневаюсь, что вы понимаете, какого рода свободу выбрали.
Разговор не мог сбить нарастающую эйфорию Марти. Сомервейл побежден; что ж, пусть болтает.
— Джозеф Уайтхед, возможно, один из самых богатых людей в Европе, но и один из самых эксцентричных, как я слышал. Бог знает, во что вы ввязываетесь, но я говорю вам: не исключено, что здешняя жизнь покажется вам куда более уютной.
Но его слова не имели значения, Марти оставался глух к ним. От усталости или потому, что почувствовал равнодушие слушателя, Сомервейл закончил свой презрительный монолог так же внезапно, как и начал. Потом он отвернулся от окна, чтобы закончить неприятное дело как можно скорее. Марти испытал потрясение, когда увидел, как изменился Сомервейл. За неделю тот постарел на несколько лет и выглядел так, словно нынешний отрезок его жизни заполняли лишь сигареты и несчастья. Его кожа походила на черствый хлеб.
— Мистер Той будет ждать вас на выходе в следующую пятницу днем. Тринадцатого февраля. Вы суеверны?
— Нет.
Сомервейл протянул Марти конверт:
— Подробности здесь. В ближайшие дни вы пройдете медкомиссию, и сюда приедет человек, чтоб подготовить ваше заявление для комиссии по условно-досрочному освобождению. Ради вас изменили правила, Штраус, бог знает почему. Есть дюжина более достойных кандидатов.
Марти открыл конверт, бегло просмотрел страницы печатного текста и положил их обратно.
— Больше вы меня не увидите, — продолжал Сомервейл. — И я уверен, что этим вы вполне довольны.
Марти постарался, чтобы по его лицу нельзя было прочитать ответ. Кажется, его притворное безразличие разжигало очаг бессмысленной ненависти усталого Сомервейла. Тот оскалился и проговорил:
— Будь я на вашем месте, я бы благодарил бога, Штраус. Я бы благодарил его всем сердцем.
— За что… сэр?
— Но я полагаю, что в вашем сердце не так много места для него, правда?
В его словах было столько же боли, сколько презрения. Марти не мог не подумать о том, что Сомервейл остался один; муж, потерявший и жену, и веру в то, что увидит ее вновь, неспособный плакать. Другая мысль быстро сменила первую: каменное сердце Сомервейла, разбившееся от одного удара, не слишком отличается от сердца самого Марти. Они оба крутые парни, оба начали собственную войну против мира, и оба кончили тем, что оружие, которым они собирались сокрушить врагов, обернулось против них. Это понимание ужаснуло его, и он уже не радовался известию об освобождении, как должен бы был, хотя прежде не решался мечтать о нем. Все именно так. Подобно двум ящерицам в грязи, Марти и Сомервейл вдруг стали похожими, как близнецы.
— О чем вы думаете, Штраус? — спросил Сомервейл.
Марти пожал плечами.
— Ни о чем, — ответил он.
— Лжец, — отозвался Сомервейл, собрал папки и вышел из кабинета, оставив дверь открытой.
На следующий день Марти позвонил Шармейн и рассказал обо всем. Она казалась довольной, за что Марти был ей признателен. Когда он отошел от телефона, его немного трясло, но чувствовал он себя отлично.
Последние несколько дней Марти смотрел на Уондсворт как бы со стороны. Рутинные подробности тюремной жизни — привычная жестокость, бесконечные ряды камер, силовые и сексуальные игры — все было внове, как шесть лет назад.