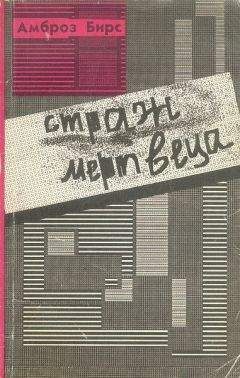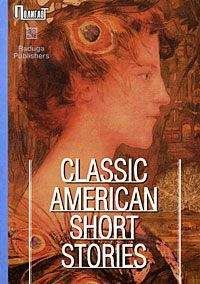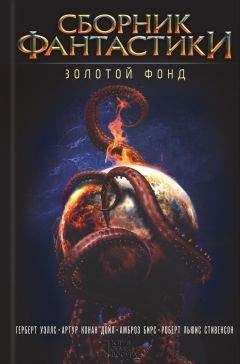у тебя есть покровитель, который мог бы — не бесплатно, конечно — засунуть
это в адскую щель?
Он отнял руки от лица. В расширившихся глазах смешались неверие и надежда.
— Зачем тебе помогать мне? Я даже не знаю, как тебя зовут. В любом случае ты не готов побывать в аду…
— Ну, — сказал я, — путь в ад, как говорит моя мудрая мама, устелен франками. Мне начхать на тебя, мальчик, но три человека погибли в этой комнате. Если портал удастся запереть, я рискну.
Забыв обо всём, Даниэль дёрнулся ко мне, но вовремя спохватился.
— Тебе заплатят. Очень — очень щедро.
— Ох, как бы я об этом не пожалел.
* * *
Я пожалел — уже в лифте. Кабина грохотала, спускаясь, шахта гудела, в медных кнопках, в деревянных пластинах, в плитках на полу отражалось что — то не то, какие — то тёмные и подвижные завихрения, смерчи, носящиеся вокруг меня в зазеркалье. И вот — вот меня слопает ничто.
Но лифт доставил на первый этаж.
Я отворил лязгнувшую решётку и выбрался в вестибюль. Солнечный свет ослепил. Удивительно, в мире за порогом шестьсот шестого номера ещё и полдень не наступил.
Долговязый консьерж прикладывал к рубильнику компресс, его физиономия начинала распухать. Но на меня он посмотрел с вызовом и злорадством. Он видел, как улепётывает «шкаф» — точно преследуемый демоном — свиньёй и, полагаю, он догадался о судьбе второго «шкафа». В Каркозе не было принято вызывать полицию по пустякам. Стены, пожирающие постояльцев и горничных? Что ж, бывает.
— Хорошего дня, — ухмыльнулся консьерж.
— И вам, и вам…
«Ситроен» пропал. Водитель, должно быть, гнал в Париж на всех лошадиных парах. Голуби копошились у крыльца плотной сизой массой. Коробку я завернул в простыню, нёс в вытянутой руке импровизированный мешок; так несут к унитазу собачье дерьмо.
Интересно, а искать рай Даниэль не думал? И есть ли он вообще — рай? Учитывая, что сегодня я воочию узрел демона, мне хотелось верить в существование противоборствующей армии, архангелов с мечами и фугасами.
Я прошагал до сквера с торчащим на постаменте воином неопределённой армии и эпохи. Воин героически выпятил подбородок. Памятник был столь пафосным и невразумительным, что наверняка бы понравился фюреру.
Меня осенило. Пейзажи Гитлера — вот на что были похожи бездушные и пустые улицы Каркозы. А ещё они напомнили мне детство. Не хватало воя сирен и световых столбов — прожекторов, обшаривающих небо. И я, вечно голодный, отдавший школьной подружке Саре свою порцию гуманитарного печенья «Петен», подходил к витринам кафе, облизываясь на пирожные, но вдруг понимал, что десерт вылеплен из воска.
Такой же фальшивой была и Каркоза.
Будто спеша уверить чужеземца в своей нормальности, площадь одарила запахом сдобы. И после всех сегодняшних ужасов — пережитых и предстоящих — мой желудок отреагировал ворчанием. Я потрафил ему — двинулся к булочной. С порожним животом в ад не ходят.
Дробно зазвенели колокольчики. Плоская, словно вырезанная из картона, фигура за прилавком шевельнулась, обратившись в человека, лысого, толстенького, с лицом добродушным и учтивым. Я прищурился, ожидая подвоха, но лавка была образцово — показательной: багеты, маслянистые круассаны, калачи. Я поставил ношу на пол. Выбрал хлеб, начинённый козьим сыром и вялеными помидорами. Булочник достал выпечку щипцами. Не сходя с места, я принялся трапезничать, набивал брюхо, удивляясь собственному зверскому аппетиту.
— Вкусно, — сказал я и обернулся к скверу и памятнику за окном. — Зачем всё это?
— О чём вы, месье?
— Зачем столько многоквартирных домов? Зачем метут улицы? Зачем этот город? В нём же практически никого нет.
— Он для нас с вами, месье.
— Вы местный?
— Насколько это возможно. — Булочник говорил с достоинством и лёгким поклоном.
— Вы родились здесь?
— Нет, месье. Здесь не рождаются. По крайней мере, здесь не рождаются те, с кем вы могли бы поболтать среди бела дня. Все, кого вы встретите, искали в Каркозе что — то. И слишком увлеклись поисками.
— Что же искали вы?
Булочник убрал с воротника ворсинку, педантично отряхнул фартук. Странно, на периферии зрения, пока я не смотрел в упор, он выглядел каким — то приплюснутым, одномерным.
— Вы видели православную церковь на холме Гиад? Храм двух с половиной святителей?
Я подтвердил, вспомнив собор с намалёванными на стенах глазами и колокольню, завёрнутую в синюю ткань, как в саван.
— Чтобы найти его, — сказал булочник, — я потратил три года. Три долгих года мотался по ночлежкам Каира и лабиринтам Калькутты, и вот я у цели. Пламя свечей извивается, как языки ящериц. Крест, подвешенный под сводами, бросает на редких прихожан тень. Святые смотрят с потрескавшихся фресок недобрыми очами. А появившийся священник сам словно отпочковался от старинных икон. Я в храме двух с половиной святителей…
— Меня раздирает любопытство. А половинка святого, он — кто?
Булочник не удостоил реплику вниманием. Точно в трансе, говорил:
— Мухи ползали по выщербленному столетиями мозаичному полу, по бороде и сутане священника. Я сказал, что прибыл издалека. Что ищу библиотеку. Я достал страницу, исписанную бурыми чернилами. Служитель культа знакомился с текстом, а я косился на прихожан, таких же скособоченных, как персонажи фресок. «Что это?» — спросил священник. — «Вы прекрасно понимаете. Это рекомендательное письмо известной вам госпожи Мадхаван. Вы можете доверять мне». Он молчал и я протянул ему остальные письма, написанные могущественными, неуловимыми, влиятельными людьми, чьи имена в определённых кругах произносили шёпотом. Я поставил на кон бессмертную душу, добиваясь аудиенции, я облетел три континента. Вряд ли священника впечатлили бумаги, но, когда я повторил вопрос, он указал на дверь слева от алтаря. «Библиотека вверху». Я возликовал, месье. Скоро, совсем скоро я коснусь корешков запретных фолиантов. Я думал о них, топая по каменной лестнице, хватаясь за ледяные поручни. Бледный солнечный свет просачивался сквозь узкие окна. Лестничный виток привёл на площадку, пахнущую свежей краской. У деревянных помостов мужчины в заляпанных побелкой робах орудовали кистями, покрывали стены жёлтым. Ремонт двигался полным ходом. Эти работяги были столь неуместны на пороге величайшей из библиотек, хранящей бесценные знания. А канареечный цвет вызывал неприятные ассоциации с домом, с матерью, никчёмной рабыней кухни!
Тут глаза булочника сверкнули потаённой ненавистью, по лицу проскользнула рябь, словно кожа была занавесом и с изнанки на неё подул ветер. Хлебный мякиш застрял у меня в горле. Булочник продолжал, вперившись взглядом в багеты:
— Я шёл по лестнице. Из бойниц видел кровли тонущих в тумане окрестных построек. Ступеньки мелькали под подошвами. На новой площадке меж этажами новые работники красили стены. Неужели