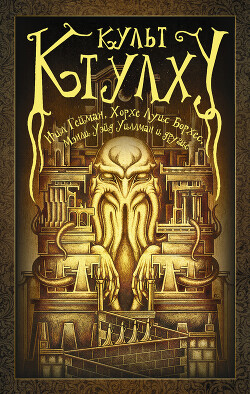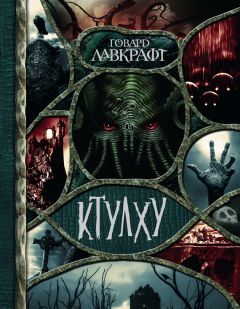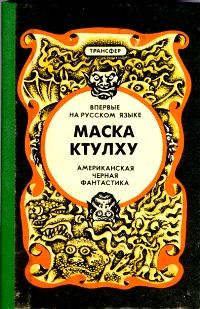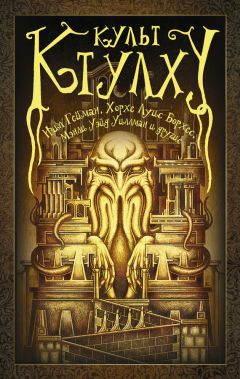И вот теперь я, скромный студент, собирался отыскать останки и последний труд легендарного Петра Апонского.
II
Сама книга меня ужасно заинтересовала. Что бы это могло быть? Может, один из ранних латинских переводов «Некрономикона»? Или легендарный перевод жутких «Мнемабических фрагментов», выполненный в свое время Деланкром? Или вообще какой-то доселе неизвестный памятник античной или готической фантазии? Я тут же вообразил свою докторскую в виде аннотированного издания этого совершенно нового, уникального источника – первого, между прочим, за семьсот лет! Как это было бы чудесно!
Род Джироламо пресекся во время великой чумы, заставившей Боккаччо бежать во Флоренцию и произвести там на свет «Декамерон». Следовательно, за склепом в крипте Сан-Джузеппе давно уже никто не присматривал, и сам он имел лишь второстепенную археологическую ценность – а потому мою просьбу пустить студента в церковь на ночь, поизучать древнюю эпиграфику, монахи охотно откликнулись.
Оказавшись, наконец, один – и немало нервничая от компании давно умерших итальянцев – я принялся исследовать руинизированные усыпальницы. Цементная замазка гробов давно раскрошилась, так что дабы совладать с крышками оказалось достаточно элементарного технического мышления, лома и сильной спины.
Родич за родичем являлись познакомиться со мной – Антонелло, Джорджо, Тонио, Лючия… Все, что осталось от них – заплесневелые черепа и произвольный набор костей в красиво украшенных мраморных саркофагах; останки уже утратили целостность, а вместе с нею и всякое подобие человеческому телу. Просто куча костей и горка бархата или шелка, изъеденного червем в мелкие лоскутья. Рад добавить, что по непонятной причине мне даже в голову не пришло, что я оскверняю могилы. Ученым свойственно с головой уходить в работу – именно это и случилось со мной. Я человек не особенно храбрый, даже на кладбище в полночь без сопровождающих бы не пошел, но той страшной ночью в церкви был совершенно один – главным образом потому, что не желал ни с кем делиться своими гипотетическими открытиями. Мародерствовал себе тихонько в крипте, рылся в старых костях и тряпках, и голова моя была занята исключительно наукой, хотя и в довольно эгоистическом ключе.
Был, наверное, тот самый темный час перед рассветом, когда я вскрыл могилу рядом с Джироламо. В ней возлежало на удивление превосходно сохранившееся тело, но жутко переломанное и искалеченное, с остатками льняных бинтов на руках и ногах. Череп располагался под странным углом к позвоночнику, а безгубый рот с частично выбитыми зубами был широко раззявлен, так что даже сейчас, семьсот лет спустя, казалось, что его обладатель воет от боли. Все мои силы разом куда-то улетучились. Предо мной, несомненно, был Пьетро ди Апоно, весь в свидетельствах милосердия инквизиции. Затхлый и гнилостный запах давно запечатанной могилы ударил мне в ноздри да так, что желудок скрутило, и я принялся хватать ртом воздух. Я вскочил, кинулся к лестнице наверх и одолел ее в два прыжка.
Казалось, церковь теперь заполняли миллионы шуршащих и шепчущих, незримых глазу тварей, которых мое взбесившееся воображение с готовностью наделило обликом. Я почти видел тени всех мужчин, женщин и даже детей, когда-либо вступавших под эти своды. Насмерть перепуганный, я упал на колени и прежде чем совсем лишиться чувств, почти узрел шествующую ко мне через темный неф процессию сгнившего духовенства, ухмыляющуюся и размахивающую кадильницами, которые источали багровый дым и благоухали тою же жуткой вонью, что хлынула из-под крышки последнего пристанища Петра Апонского. Я рухнул на скамью, и последнее, что я помню, был вырезанный на ее боку крест – он принес мне облегчение. Рассвет уже начал затоплять церковь своим призрачным серебром, когда я очнулся. Обширная храмина стояла пустая.
III
Все еще купаясь в поту, я кое-как встал, проковылял ко входу в крипту и спустился по ступенькам – каждая предоставила мне уникальную возможность поупражнять силу воли, всю, сколько ее у меня осталось. В склепе я очутился перед выбором: закрыть крышку гроба и оставить работу историкам похрабрее, или все-таки обыскать его как следует на предмет свитка. К своему вековечному проклятию, я препоясал чресла и выбрал второй путь.
Поднеся лампу поближе к трупу, я решил хорошенько его разглядеть. С ночи он не изменился ни на йоту. Уверившись в этом, я испытал огромное облегчение: видимо, ничто, кроме собственных лихорадочных фантазий, не гонялось за мной несколько часов назад вверх по лестнице и вдоль по нефу. Жалость к бедняге Пьетро преисполнила меня. Охваченный сантиментами, я не сразу заметил невыцветшую, все еще яркую алую ленточку возле раздавленной правой руки тела.
Сердце у меня так и екнуло: ленточка обвивала пергаментный свиток. Я поспешно схватил его и с большим усилием – оказалось, что с ночи я успел значительно ослабеть – вдвинул крышку на место. Быстро собрав инструменты и свет, я кинулся вон из церкви.
Даже несвежий запах, въевшийся в руки и рубашку, оказался бессилен перед несравненным ароматом итальянского утра в начале лета. Все вокруг так и сияло чистым золотом во славе своей, и к тому времени как я добрался до своего временного пристанища, ночные ужасы положительно благорастворились, и меня охватила блаженная истома. Спал я крепко и без снов и пробудился в вечерних сумерках.
К наступлению ночи я был уже совершенно бодр и снова несколько нервозен. Одевшись, я взял в руки свиток. Он оказался почти в фут шириной и довольно толстый: судя по всему, Пьетро успел-таки углубиться в перевод, прежде чем злая судьба настигла его.
Я развернул пергамент, отметив, что после всех этих веков он остался на диво пластичным и прочным. Настоящее сокровище! Источник содержал не только перевод как таковой: пометки на полях на просторечном итальянском вполне тянули на редакторский комментарий. Не знаю, на каком языке изначально был оригинал, но переводили его явно на латынь. Название четко выделялось вверху страницы – «Gloriae Cruoris» (на английском, грубо говоря, «Слава крови» или «Слава кровопролитию»). Автора звали Серпенсис – не то настоящее имя, не то латинизация, кто его разберет. Начальные ремарки Пьетро оказались весьма продуманны и осторожны; можно себе представить терзания ученого, пытающегося извлечь что-то ценное из откровенного богохульства.
Давайте проанализируем, – писал он, – свойства крови в том порядке, в котором приводит их ученый Серпенсис. Прежде всего, кровь есть сок жизни, подобно тому как тело – ее сосуд.
Далее он выдвигал тезис, что кровь есть первичная жизненная сила, что без нее человек умирает, а с нею – и неважно, с чьей! – способен продлить свою жизнь дальше всех нормальных пределов. В заключение Серпенсис утверждал, что после всех необходимых осквернений оператор обретает нечувствительность к запаху и прикосновению к мертвецам, а с нею и способность общаться с ними, высвобождать их души и брать их к себе на службу. Сила человеческая измеряется количеством душ, которыми он повелевает, и количество это можно значительно увеличить, осуществляя одновременно два таинства: убийства и пития крови.
Я был вне себя от отвращения, как, должно быть, и Пьетро за много веков до меня. «Глория» оказалась работой вампира и некрофила, в стародавние времена, не то античные, не то средневековые, терроризировавшего всю округу и, по всей видимости, возглавлявшего некий чудовищный и грязный культ. Такое и вправду нелегко было превратить в приличное и достойное научное исследование, на котором можно защитить докторскую.
И все же я продолжал читать. Я слишком много поставил на эту книгу, чтобы вот так отворачиваться от нее в приступе ужаса, как в свое время сделал мой предшественник. Проглядывая изобилующий кровавыми подробностями текст, я сражался скорее с отвращением и тошнотой, чем со страхом. Поля манускрипта были испещрены комментариями Пьетро о том, как он сопротивлялся злым чарам, которые, как он чувствовал, начинают оказывать на него тлетворное влияние. Дабы рассеять сгущавшуюся атмосферу зла, он применял разнообразные песнопения и не менее действенные заклинания белой магии. Я, конечно, ничего подобного не делал. Я просто планомерно продирался сквозь чащу средневековой латыни и итальянского, нисходя, так сказать, духовно в бездны бесчеловечности и деградации, какие раньше и вообразить себе не мог. Серпенсис был воистину великий вурдалак, рядом с которым бесславный злодей Жиль де Ре показался бы изнеженным слабаком.