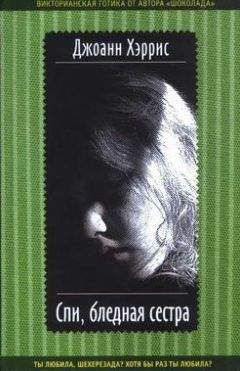Если бы я услышал, как она это говорит, я знаю, я бы сошел с ума, но я понимал, что она говорит только в моей голове.
(тырасскажешь мне тырасскажешь тырасскажешьмне)
Я применил единственное известное мне заклинание. Чтобы заглушить безжалостный голос в мозгу, я произнес вслух волшебное слово, я призвал колдунью со всей страстью, на которую был способен:
— Марта.
Тишина.
И проблеск надежды. Проблеск успокоения.
Казалось, я прождал в этой подводной тишине несколько часов. В десять поднялся с кресла, умылся холодной водой, не спеша и аккуратно оделся. Я прокрался, незамеченный, из дома в безветренную ночь. Снегопад прекратился, и сонная неподвижность завладела городом; с ней пришел туман такой густой, что даже фонари потускнели, их зеленоватые абажуры затерялись в бесконечной белой мгле. В тумане снег, казалось, сверхъестественно засиял, будто кошачьи глаза, превращая редких прохожих в ожившие трупы. Но хлорал и близость Крук-стрит обуздали моих призраков. Маленькая нищенка не шла за мной, протягивая худые голые руки в немой мольбе, призраки — если они и существовали — не осмеливались покидать Кромвель-сквер.
Идя по снегу, оберегаемый от тумана светом фонаря в руке, я снова был сильным, неколебимо уверенным в том, что она ждет. Марта, моя Марта. Я нес ей подарок, спрятанный под пальто, — персиковую шелковую накидку, которую купил на Оксфорд-стрит. Я заново упаковал ее в ярко-красную бумагу и перевязал золотой лентой… Я шел, и моя рука то и дело тянулась к свертку, ощупывая его, представляя, как персиковый шелк будет смотреться на ее коже, как дразняще он соскользнет с ее плеча, как тонкая полупрозрачная ткань окутает ее густые волосы…
Когда я добрался до дома на Крук-стрит, была почти полночь. Предвкушение и возбуждение от мысли о том, что она так близко, было столь велико, что я очутился перед дверью, не успев сообразить, что дело нечисто: дом был темный, ни одно окно не светилось, даже фонарь над дверью не горел. Озадаченный, я остановился в снегу и прислушался… но из дома Фанни не доносилось ни звука, ни малейшего звона музыки или смеха; ничего, лишь эта ужасная, гудящая, всепоглощающая тишина.
Мой стук гулким эхом отозвался по дому, и я вдруг поверил, что они ушли, Марта, и Фанни, и все они; что они просто собрали вещи и исчезли, как цыгане, в изменчивом снегу, не оставив ничего, кроме печали и дуновения магии в воздухе. Я был настолько в этом убежден, что закричал, заколотил кулаками по двери… и дверь тихо распахнулась, словно улыбнулась, и я услышал, как часы в холле начали отбивать превращение дня в ночь.
Я остановился на ступенях, вдыхая легкий запах пряностей и старого ладана. В холле было темно, но лунный свет, отражаясь от снега, бросал слабый, неземной отблеск на полированные половицы и блестящие латунные ручки дверей, и моя тень, такая отчетливая, криво падала через порог в прихожую. Прохладное дуновение ароматного воздуха коснулось моего лица, словно чье-то дыхание.
— Фанни?
В безмолвной путанице дома мой голос прозвучал навязчиво, чересчур пронзительно. Столько лет я бывал в этом доме, но впервые осознал, сколь он огромен: коридор за коридором устланного коврами лабиринта, двери, мимо которых я никогда не проходил, блеклые изображения нимф и сатиров с испорченными хитрыми лицами; визжащие вакханки с ляжками толщиной с колонну, преследуемые ухмыляющимися карликами и плотоядными эльфами; застенчивые средневековые служанки из Пандемониума с узкими бедрами и загадочными проницательными глазами… Я двигался по сумрачным галереям откровенного, заключенного в позолоченные рамы разврата, темнота лишала меня чувства направления. Я пошел быстрее, кляня свои приглушенные и отчего-то зловещие шаги по толстым коврам. Я искал лестницу, но, сворачивая, оказывался в очередном коридоре, а поворачивая ручки, натыкался на запертые двери и слышал шепот, будто за спиной припала к земле полупроснувшаяся тайна.
— Фанни! Марта!
Я окончательно растерялся. Казалось, дом тянулся во все стороны на неизмеримые расстояния; я устал, будто пробежал не одну милю.
— Марта!
Тишина отозвалась эхом. Кажется, где-то далеко-далеко зазвенела музыка. Спустя миг я ее узнал. — Марта!
Мой голос сорвался на высокой панической ноте, и я вслепую побежал вперед, колотя руками по стенам, в отчаянной мольбе выкрикивая ее имя. Я свернул за угол и уткнулся прямо в дверь, коридор неожиданно кончился. Страх рассеялся, будто никогда и не существовал, сердце забилось медленнее, почти ровно, я взялся за фарфоровую ручку, и за дверью открылся холл.
Там были ступени — я не понимал, как мог пропустить их, когда проходил здесь в первый раз, — и я увидел лунный свет, лившийся из маленького витражного окна, отражаясь на полированном дереве. Свет был такой яркий, что я даже различал цвета: вот красное пятно на перилах, пара зеленых ромбов на ступенях, голубой треугольник на стене… а наверху лестницы обнаженная фигура, прелестная линия ее бедра мерцала лиловым, синим, бирюзовым, ниспадающий водопад волос — как темная вуаль, наброшенная на лик ночи.
Лицо в тени, но лунный свет высветил один глаз, придав радужной оболочке переливчатый блеск. Она замерла, будто кошка перед прыжком; я видел, как напряглась ее белая шея, мышцы натянулись, как у танцовщицы, видел изгиб ее ступни, каждый нерв ее тела был как струна, и я исполнился благоговейного ужаса перед этой неземной красотой. Несколько секунд я был слишком поглощен видением, не в силах даже вожделеть. Но вот я сделал шаг навстречу, и она отпрыгнула от меня с тихим смехом и помчалась по ступеням, а я — за ней. Я почти поймал ее; помню, как ее волосы коснулись моих пальцев, пробудив во мне жаркую дрожь желания. Она была проворней и ускользала от моих неуклюжих объятий, а я тяжело бежал следом. Добравшись до верхней ступени, я, кажется, услышал ее смех, дразнящий меня из-за двери.
Я тихо застонал в предвкушении, обострившееся напряжение толкнуло меня к двери (ручка была из бело-голубого фарфора, но я не успел это осознать). Я начал срывать с себя одежду, не успев войти, оставляя сброшенные шкуры (пальто, рубашка, галстук) на лестнице. Открывая дверь, я уже почти разделся, оставшись в носках, шляпе и одной штанине, и был слишком поглощен попытками избавиться от нелепых остатков одежды, чтобы обращать внимание на обстановку. Память подсказала, что я уже бывал здесь — в комнате из моих снов, ее комнате, комнате моей матери, кою некая насмешливая колдунья перенесла в дом на Крук-стрит. В тусклом свете прикрытой колпаком свечи я различил детали, которые помнил с того первого ужасного дня, терявшие всякое значение от присутствия Марты: туалетный столик с флотилией баночек и бутылочек, парчовое кресло с высокой спинкой, на нем небрежно брошенный зеленый шарф, на полу еще один забытый шарф, на кровати платья — смятая груда кружев и тафты, и узорчатой парчи, и шелка…