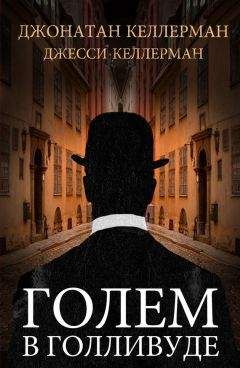– Что с ним стряслось? – спросила Нортон.
– Он сказал, мотоциклист наехал ему на ногу. Дескать, идти не может, ступня в крови. Сюда не привози, говорю Чарльзу, вези в больницу. Согласитесь, это разумно. Но Реджи уперся – не желаю в больницу. Всю ночь стонал, как зомби. Лишь дня через три-четыре уговорили его показаться врачу. Чарльз поехал с ним, а на обратном пути купил ему новые туфли – чтоб было в чем ходить, когда снимут гипс. Я рассвирепел.
– Вас можно понять, – сказал Джейкоб.
– Я потребовал, чтобы он убирался немедленно. Нельзя выгонять его на улицу, сказал Чарльз. Когда он наконец свалил, я пошел навести порядок в подвале – это было мое категорическое условие: наверху он жить не будет – и увидел его старые туфли. Видимо, он пытался отчистить кровь, не вышло, и он их бросил. Я хотел выкинуть, но не смог к ним прикоснуться. По-моему, они и сейчас там.
Караван арендованных стульев перегородил парадную дверь. По кирпичной дорожке, окаймленной пионами, Дез направился вкруг дома. Голос невидимого Макилдауни улещивал флориста.
Каменные ступени вели в захламленный подвал – резкий контраст просторному дому. После Праги, подумал Джейкоб, мой порог тесноты существенно возрос. Относительное сопротивление бедламу оказывали винные стеллажи и пластиковые контейнеры. На полке над раковиной выстроились разноцветные бутылки с отравами, от щелока до полироли.
– Я их зафутболил, – сказал Дез.
Недоуменные взгляды.
– Туфли. Я понимаю, что это ребячество, но я ужасно разозлился.
– Где они приземлились? – спросила Нортон.
Дез неопределенно махнул рукой:
– Где-то там.
Туфли отыскались за печкой. Замшевые мокасины на каучуковой подошве поросли пылью, на правом темные пятна. Нортон подцепила туфли авторучкой, а Дез рылся в хламе, ища какой-нибудь пакет.
– Вы не обидитесь, если я кое о чем спрошу? – сказал Джейкоб. – Иначе меня обвинят в нерадивости.
– Обидеть меня нелегко, но можете попробовать, – согласился Дез.
– У них что-нибудь было?
– У Чарльза… с Реджи? – Дез рассмеялся. – Нет. Я Чарльза спрашивал. Реджи далеко не красавец, но Чарльз был так участлив, и я хотел выяснить, прежде чем впустить паршивца в наш дом. Чарльз поклялся, что у них ничего не было. Он совсем не умеет врать, и я склонен ему верить.
Наконец Дез нашел пластиковый пакет с логотипом «Бутсов».
– Вот, прямо в тему. – Он подставил пакет, Нортон опустила туда мокасины. Глянув на пятна, Дез сморщился: – Вдруг это чужая кровь, а?
Нортон доела суп и промокнула губы.
– Удивительно, как весь из себя умный Макилдауни не разглядел, кто таков этот Реджи. Там же пробы ставить негде.
– Я думаю, ум тут ни при чем.
– Вот он вечно ни при чем.
– Как считаете, он правда не узнал мистера Черепа?
– Дез сказал, он не умеет врать. Вроде оба искренны были.
– Согласен. Жалко, что он не узнал.
– Не горюйте. Он дал имя – Перри-Берни.
– Это уже третий фигурант.
– Таинственный американец, – улыбнулась Нортон. На подбородке у нее появилась милая ямочка. Глаза у Присциллы были синие, почти фиолетовые, – производители косметики называют этот цвет васильковым.
– Значит, так, – сказал Джейкоб. – Мистер Череп и Реджи отправляются в Лос-Анджелес. Неизвестно зачем.
– Позагорать, набраться сил. Может, в гости к Перри-Берни.
Джейкоб кивнул:
– Делают свои дела. Двадцать месяцев кошмар правит бал, потом группа распадается – по крайней мере, Реджи отбывает. Мистер Череп, которому Лос-Анджелес глянулся, остается. Выходит, их убрал один и тот же человек – Перри-Берни.
– Вы слишком много на него вешаете, – сказала Нортон. – Может, он просто славный парень, который тоже хотел помочь бедолаге Черецу.
Джейкоб задумчиво ковырял остывшую лапшу в арахисовой подливке. Есть не хотелось, и такое впечатление, что не захочется еще неделю; не терпелось вернуться к работе. Он смутно чувствовал, что Нортон с любопытством его разглядывает. Что-то с ним не так.
– Может, еще куда-нибудь сходим? – спросила Присцилла. – Вы не голодный?
– Я нормально.
– Вы только поклевали, лопала я. Хотите, угощу вас том ямом? Полный восторг.
– Нет, спасибо. Я не люблю кинзу. Какой-то мыльный вкус. И лимонную траву не люблю.
– Трава-то чем не угодила?
– Будь лимоном или травой. Выбирай.
– Если вы не любите лемонграсс и кинзу, почему мы заказали тайские блюда?
– Вы так пожелали.
– Какой вы галантный.
Джейкоб отсалютовал пивом.
– Вряд ли за год приезжает много американцев, – сказала Нортон. – Можно проверить по списку студентов. Правда, сегодня канцелярия закрыта.
– У них существуют выпускные альбомы? – спросил Джейкоб.
– Наверняка. Или что-нибудь в этом роде. Я спрошу Джимми.
– Кто он вам?
– Друг отца. Меня знает с детства.
– Вы здесь выросли.
Нортон кивнула.
– Как оно тут?
– Весело. Пьяные драки со студентами. Клево.
Джейкоб улыбнулся:
– Папа был полицейским?
– Учителем. Преподавал латынь. Такой, знаете, истинный грамматист, который подпевает радио и орет на Эрика Клэптона: «Изволь, Сэлли, – изволь, а не изваляй!»[53] Мама говорит: «Все это чудесно и замечательно, Джон, но, может быть, он хочет, чтобы его изваляли в гусиных перьях». – «Вряд ли песня об этом, Эммалин». «И то», – соглашается мама и прибавляет звук. – Нортон улыбнулась. – Вот такое мое детство, если в двух словах. А у вас?
Рассказ лишний раз напомнил, что Джейкоб в детстве многое пропустил.
– Родился и вырос в Лос-Анджелесе. Мама умерла. Она была художницей. Отец раввин, хотя сам себя так не называет.
– У-у, какая редкая родословная.
Джейкоб чуть не излил душу. Так давно не разговаривал с нормальным человеком. С ней он как-то подсобрался. Умница, симпатичная и не дылда.
Нортон откинулась на стуле, готовая слушать.
– С младых ногтей меня приучали искать денежный след, – сказал Джейкоб.
– Вы будете смеяться, но нам не платят суточные.
– Мой шеф специалист по выкручиванию рук.
– А у вас есть особый фонд для ухаживания за местным полицейским составом?
Джейкоб поднял стакан:
– За международные отношения.
Они вернулись в участок и сели за компьютер.
Сайт Студенческого художественного общества известил, что оно ориентировано на тех, кто не специализируется в искусстве, однако ищет возможность выставить свои работы.
Джейкоб читал между строк: художественная школа – клика, а Студенческое общество, этакий кокон внутри университетского кокона, – клуб, где нашли приют эстеты второго эшелона.