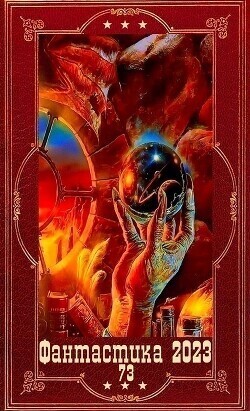так делать? Я бесился, но здоровье моей ба волновало куда больше, чем то, что лучший и единственный друг влепил мне моральную пощечину и увел девушку. И я не стал устраивать сцену.
Я уже хотел было вернуться в кофейню, но мобильный снова зазвонил.
— Дэниэль, — чуть помедлив, позвал доктор Бронкс из трубки.
— Слушаю.
— Я поделился с вашей бабушкой радостной новостью о вашем прилете, отчего она… У нее случилась истерика. Миссис Чейз умоляла отговорить вас лететь сейчас. Она была очень убедительна, и, ввиду ее состояния, давайте отложим посещение, хорошо? Не срывайтесь в ЛА. Я в ближайшее время пересмотрю лечение.
Ба не хочет, чтобы я летел к ней. Почему?
— Я понял. Спасибо. Не могли бы вы отправить мне бабушкины письма?
— Я сейчас узнал от помощника, что в отпуск он летит в Прагу. Я мог бы передать письма с ним, — голос доктора был печальным.
— Если вас не затруднит, — пробормотал я, совсем раздавленный новостями.
В трубке завозились, послышался стук:
— Так, минуту… — повисла тишина, я ждал. — Аэропорт Вацлава Гавела, пятница, десять утра. Придете? Миссис Чейз в истерике просила передать вам их, пока мы не дали ей успокоительное. На данный момент она отдыхает.
— Да! Приду. Скажите, когда я смогу поговорить с бабушкой по телефону?
— В ближайшие дни точно не сможете. Наберитесь терпения, Дэниэль. Я позвоню, когда ее состояние улучшится.
Я попрощался и сбросил звонок. Вернулся к нашему столику. Ребята резко замолчали и посмотрели на меня.
— Дэн? Что-то случилось? Ты бледный.
— Я… Мне нужно съездить в аэропорт. Получить весточку от бабушки. Дальше без меня.
Голос прозвучал скрипучей дверью. В аэропорт только через два дня, но я был не в силах держать лицо и делать вид, что у меня все отлично.
— Поехать с тобой? — Фил отбросил дурашливость и спрашивал как тот друг, которого я любил.
— Не стоит. Я справлюсь.
— Приятно было увидеться, — я мягко коснулся руки Черновой, и она в ответ пожала мою ладонь.
— И мне. Обязательно повторим.
Снова на ее лице от улыбки появились очаровательные ямочки, к которым я захотел прикоснуться губами.
Я вышел из кофейни и быстро направился в сторону остановки. Длинные пражские бело-красные автобусы, словно проворные гусеницы, сновали между легковых авто, чудом, вернее, мастерством водителей не сталкиваясь друг с другом. Пока я шагал вдоль набережной, закатное солнце окрашивало воды Влтавы в темно-зеленый цвет. Я не хотел злиться на Фила, но, вопреки рассудку, злился. Иногда, например, как сегодня, он был невыносим.
В отражении окна притормозившего перед светофором автобуса я видел забитого испуганного мальчугана со старческими глазами. Глазами, которые встречали столько несправедливости, сколько нормальный человек не узрел бы и за всю жизнь. Даже в детстве мне казалось, что я родился уже взрослым. Осознание пришло, когда мать впервые ударила меня. С того момента я больше не чувствовал себя ребенком.
* * *
— Эй, оставьте его! — крикнул коренастый мальчик, когда один из обидчиков врезал мне кулаком в скулу. Неожиданный свидетель моего ежедневного позора. Кажется, его звали Филипп. Мальчика перевели в мой класс несколько дней назад. Я чувствовал себя жалким из-за постоянных издевательств и не хотел, чтобы новенький видел, как меня шпыняют.
— Пошел отсюда, пока и тебе не наваляли! — рыкнул здоровяк-старшеклассник, который почему-то ненавидел меня больше других.
Он и двое его дружков с первых классов задирали меня. Вытряхивали рюкзак, пытаясь найти там деньги на ланч или сладости, которые обычно кладут своим чадам заботливые родители. Я не имел ни того ни другого.
— Я сказал, оставьте его в покое! — и новичок кинулся на них, словно они ему ровесники, а то и младше, не испытывая ни малейшего страха.
Конечно же, он получил сдачи. Нескладный, он дрался так, будто от этого зависела его жизнь. Не боялся получать в ответ тумаки и возвращал их вдвойне. Старшие мальчишки струсили от такого напора. Один против троих. Я же лежал на газоне, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Прижимал учебники к груди и не мог поверить, что за меня кто-то заступился. К тому, что меня, тощего хлюпика, постоянно задевали старшие мальчишки, я привык. Побои матери ранили в сто раз сильнее. Но то, что новенький постоял за меня, все-таки вызвало целый потоп слез, который я вытирал грязным рукавом куртки.
Была осень, и после длительных ливней землю на заднем дворе школы размыло. Пока обидчики меня толкали, я пару раз упал в грязь. Но не это было страшным, а то, что мама станет кричать и бить за испачканные вещи.
Филипп выглядел уверенным в себе мальчиком, коренастым и крепким. Кареглазый, улыбчивый, с россыпью веснушек на щеках и носу, он мог бы сразу же влиться в банду старших ребят, но вместо этого стал моим лучшим другом с того момента и до сих пор.
Когда задиры бежали, он подошел, трогая одной рукой подбитый глаз, а вторую протянул мне.
— Меня зовут Филипп Митсон, но я не люблю свое полное имя, оно какое-то стариковское. Зови меня Фил, — улыбнулся он.
— Дэн, — все еще всхлипывая и хватаясь за протянутую руку, ответил я.
— Мы, кстати, ваши новые соседи, Дэн. Я вчера случайно увидел через кухонное окно, как твоя мама ударила тебя.
Я снова едва не зарыдал, но сдержался, лишь громко икая. Мои щеки покраснели, а желание убежать сию минуту стало настолько сильным, что я сделал шаг от Фила. Испытывая стыд, я опустил голову, не зная что ответить.
— Мне жаль. Мамы не должны бить детей. С ней я не могу помочь, но те трусы больше тебя не обидят!
* * *
С того дня Фил опекал меня, как старший брат, и я позволял, потому что нуждался в любви. Фил не просто друг — он мой оплот, нерушимый столб поддержки, за который я хватался в детстве после очередной затрещины от матери. Я часто оставался ночевать у него, и мы болтали обо всем на свете. Придумывали, кем станем, когда вырастем.
Родители Фила не раз вызывали службу опеки, пытаясь хоть как-то повлиять на мою мать. Но, как по волшебству, едва они должны были нагрянуть к нам, мама становилась доброй и баловала меня, отчего я оттаивал и начинал верить, что она изменилась. Перед каждым приходом опеки мама за неделю прекращала пить, и я по-детски наивно полагал, что теперь-то все будет хорошо, и подтверждал, что с мамой хорошо живется. Но после их ухода все возвращалось в прежнее русло.
Признаю, моя доверчивость была глупой, но детское сердце очень хотело,