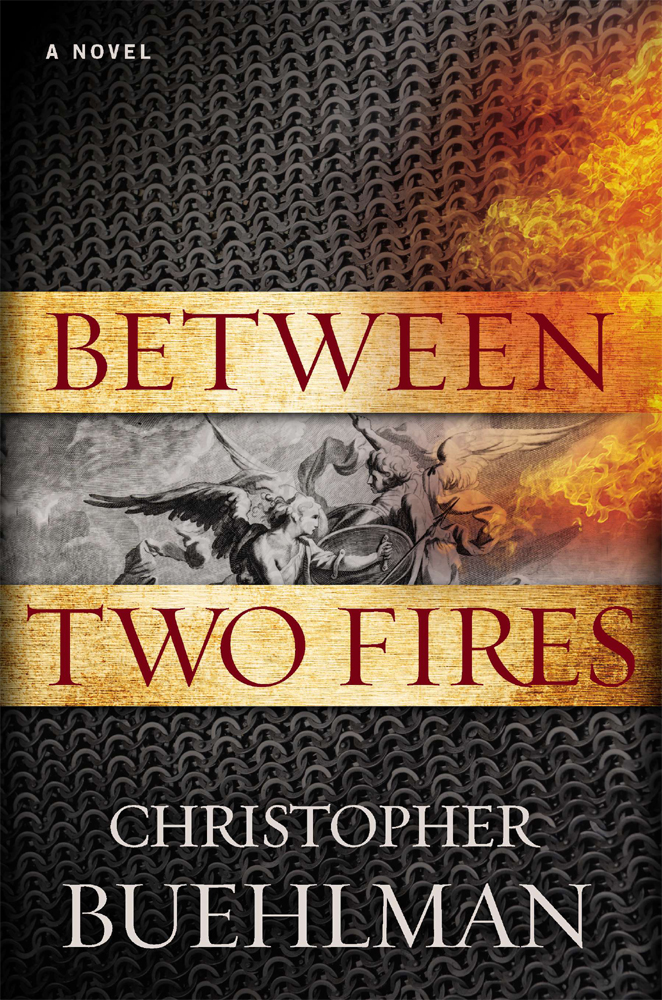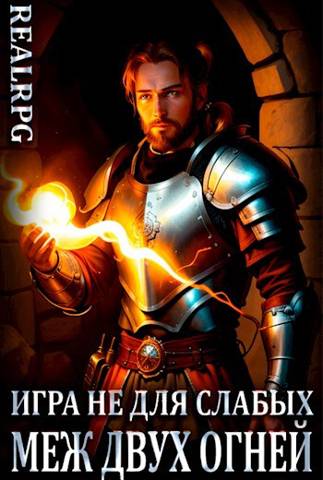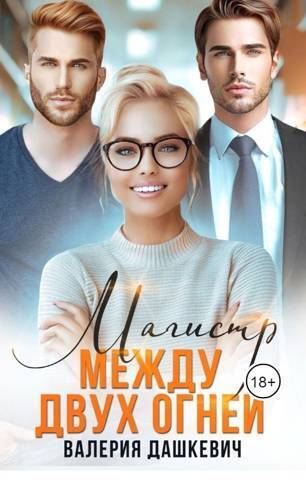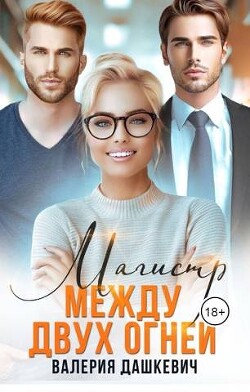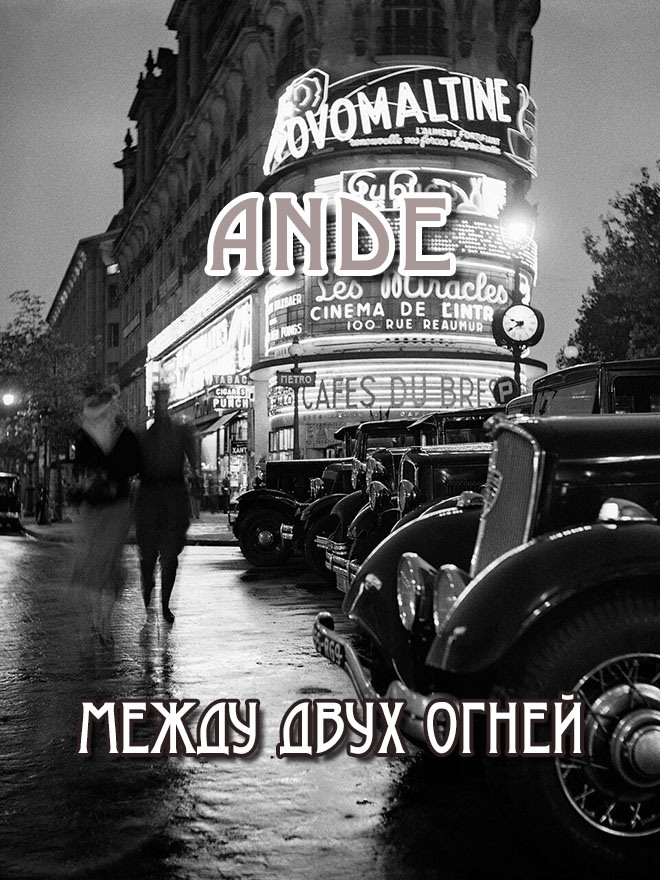с такой же самоотверженностью. Климент был папой, который налагал легкие епитимьи, совершал короткие паломничества и устраивал потрясающие праздники, а его улыбка освещала путь на Небеса, который был гораздо шире, чем ожидал любой.
Если Роберт смотрел на него с сыновней любовью, значит, он был не одинок.
Голос Климента лился в Тинель, как глинтвейн:
— Ибо в этом зале собрались люди, возлюбленные Господом за вооруженное милосердие; когда люди берутся за меч, чтобы достичь своих собственных целей, они снова проливают кровь Христа; но когда они берутся за оружие ради Его невесты, церкви, они исцеляют Его пять ран, так что это и есть глубочайшее милосердие. Слишком долго христианские короли враждовали между собой, каждый из них стремился обогатить свое королевство за счет обнищания другого. Не случайно, что эта смертоносная Чума возникла после войн, а войны последовали за голодом; на каждом шагу нам все в большей и большей степени демонстрировалось неудовольствие Отца, чей Сын лежит брошенный, а Его Крест и Его Ясли попираются теми, кто не хочет пить пролитую им кровь. Я, конечно, говорю о турках, чьи кровавые преступления против сторонников мира поносят во всех приличных странах. В левой руке я держу письмо от Эдуарда, короля Англии и правителя Аквитании, в правой — письмо от Филиппа, божьей милостью короля Франции. Обе грамоты, скрепленные клятвой в присутствии епископов, обязывают короны Англии и Франции к взаимному миру с одной целью: Иерусалим, Град Господень. Иерусалим — самый священный камень в земной короне. Даже сейчас на верфях Марселя стучат молотки. Пусть трепещут те, кто верит в ложь Магомета. Мы вернем Иерусалим.
При этих словах рыцари ударили кубками по раскрашенным столам, стоявшим перед ними. Один из них выкрикнул «Deus vult!»83, к нему присоединился другой, и вскоре Гранд Тинель огласился возгласами «На то воля Божья!» Когда эхо стихло, понтифик продолжил:
— Первые корабли отправятся на Кипр на Рождество.
Они снова зааплодировали.
— И, — сказал понтифик, делая шаг вперед и разводя руками, — нас беспокоит еще один вопрос. Наши недавние слова в защиту определенной части населения, как мы теперь считаем, были ошибочными. Многие люди, более мудрые, чем мы, говорили, что мы не можем прогнать крысу из амбара, пока мышь крадется в кладовой. Я советую тем немногим из вас, кто носит короны или сидит рядом с ними, тайно готовить себя и свои королевства; вскоре мы отзовем нашу буллу Sicut Judaeis84 в защиту еврейской расы и издадим другую, которая предоставит любому христианину право поднять руку на любого еврея и отобрать у него все, что он пожелает, даже его дом и движимое имущество. Очень скоро, начиная с праздника святого Мартина Турского85, убийство еврея будет таким же грехом, как охота на оленя. Запомните это слово, олень. Потому что у некоторых из вас скоро появятся причины полюбить это слово.
Во имя Его святого имени и ради Его святой цели давайте вырвем сорняки, как повсюду, так и поблизости, которые слишком долго росли в Его саду.
Но я больше ничего не скажу, потому что голод делает людей глухими.
Давайте есть.
Роберт был встревожен при мысли о том, что авиньонским евреям, которые казались послушными и умными людьми и, несомненно, были одними из величайших ремесленников Прованса, может быть причинен вред.
И все же он позволил теплоте в своем сердце вызвать легкую улыбку на его лице. Слова папы так подействовали на него, что он, возможно, впервые в своей жизни почувствовал себя частью чего-то огромного и чудесного.
ТРИДЦАТЬ-ОДИН
О Пире и об Охоте на Оленей
Паж графа д'Эвре побледнел так сильно, что герцог Валуа, сидевший справа от них, спросил, хорошо ли себя чувствует молодой человек.
— Да, милорд, — ответил паж. — Я… Я не выспался так хорошо, как следовало бы, из-за волнения при мысли о возможности увидеть Святого отца.
— Съешь хороший кусок говядины, мальчик, это разгонит кровь. И полей все это вином, но не слишком много, — сказал великий человек.
— Мы не заслуживаем такой доброты, милорд, — сказал граф д'Эвре, получив сильный удар по плечу от старшего лорда как раз перед тем, как они оба подняли головы и увидели блюда, торжественно плывшие из гардеробной.
Казалось, каждое существо, которое летало, плавало или ходило, нашло свой путь к столам на козлах в Гранд Тинеле. Лебеди, обвившие друг друга шеями, словно влюбленные, плавали среди армад кур и перепелов, над которыми развевались паруса из лебединых, голубиных и павлиньих перьев; эти флотилии рассекали голубые «воды»-тарелки, заполненные крабами, креветками и всевозможной рыбой, повторяясь через каждые два ярда, чтобы любой гость мог дотянуться до своего любимого блюда. Однако, прежде чем гости приступили к трапезе, распорядитель обошел оба стола, наклоняя над каждой тарелкой странное маленькое коралловое деревце, украшенное зубами акулы и рогами нарвала; говорили, что эти подвески дрожат в присутствии яда. Они не задрожали. Папа позвонил в маленький колокольчик, призывая к началу трапезы, и разговоры в комнате стихли, когда послышались звуки еды.
Для Томаса это было нечто большее, чем просто пир в дьявольском нормандском замке. Однако он поел, и поел хорошо. Мальчик-слуга наполнил его кубок вином, и он почувствовал руку Дельфины на своем запястье. Он посмотрел на нее, на ее коротко остриженные волосы, на ливрею погибшего наваррского пажа, на ее нарождающуюся грудь, туго обтянутую платком. Ее серые глаза пронзили его. Она покачала головой.
— Что? Почему? — спросил он.
Она наклонилась ближе и прошептала:
— Просто не делай этого.
Он тоже прошептал:
— Яд?
— Нет.
— Это проклянет мою душу?
— Я... я так не думаю.
— Что тогда?
Раздраженная, она сказала:
— Тогда просто выпей вино.
Он долго не пил.
Потом он забыл и выпил.
Это было хорошее вино.
Он смахнул каплю с губ как раз в тот момент, когда виолончелист, которого представили как лучшего в Арагоне, вышел на середину зала, заканчивая настройку. Он начал, наполняя комнату своими печальными, экзотическими ритмами и сложными переходами. Томас знал эту музыку так же хорошо, как и этот человек. Это была та самая песня из ночного турнира в замке. Как и на том пиру, мужчина переходил от гостя к гостю, и Томас почувствовал, как у него внутри все похолодело при мысли о том, что его узнают.
Музыкант действительно посмотрел Томасу прямо в лицо, но не дольше, чем герцогу Валуа; должно быть, он увидел только самодовольное, моложавое лицо графа д'Эвре. Когда мужчина прошел мимо, покачивая бедрами в такт музыке, Томас облегченно выдохнул и осушил свой кубок.
Дельфина наступила ему на ногу, и он свирепо посмотрел на нее.
Она ответила ему таким же взглядом.
За виолончелистом последовали другие музыканты,