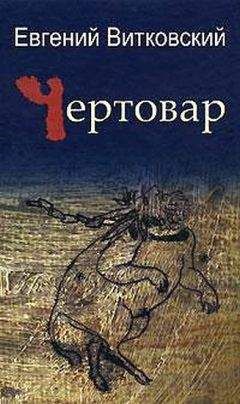— Все, хватит, — оборвала беседу кирия Александра, — сдвиньте время занятий на час назад, и тем обойдемся. Дети должны знать киммерийский — и точка. Считайте, что это не только мой приказ, но и государственный. В конце концов, вы же, рав Аарон, читаете надписи на старых монетах, когда они попадаются?
Еврей приосанился.
— А как же! Нам преподавал азбуку еще Хладимир Иммер, хороший был человек, хотя, извините, тоже гой…
Мирон оставил при себе собственную мысль о том, что едва ли он сам может считаться гоем, коль скоро он и вовсе не человек, но жить приходится среди людей, — и вежливо поклонился старейшине гильдии, который, пятясь, покидал кабинет. Богатейший меняла с острова Лисий Хвост что-то на этом разговоре для себя выгадал. Что именно — Мирон в толк взять не мог. Кто их поймет, этих евреев. Пришли в Киммерию прямо из Вавилона, по их словам, и живут среди киммерийцев, хоть их тут то ли тысяча всего, то ли две. Говорят, в какой-то книге про ирландское пиво из-за них есть строчка про Киммерион: в нем дольше всего не было ни одного еврейского погрома. Если быть точным, то никогда. Почему только про евреев там такая строчка? Мирон не знал. Сколько он себя помнил, в Киммерионе вообще никогда не было ни одного погрома. А он тут жил, мягко говоря, с самого начала.
Вообще-то древнекиммерийский язык Мирон преподавал всем, кто хотел, но детям от десяти до двенадцати лет один раз в неделю — непременно, по крайней мире в богатых гильдиях — у Сборщиков, Камнерезов, Термосников, Художников и еще у некоторых. Никто не послал бы его ни к Вдовам на Срамную набережную, ни к Колошарям под мосты, ни, упаси Боже, к Бобрам на Мебиусы, — хотя как раз он-то туда мог бы зайти спокойно, бобры б и не пикнули. Но поголовно всех детей учил он этому языку лишь у двух малых гильдий: у Евреев, они же менялы с Лисьего хвоста, и у Винокуров с Курковской набережной на северо-востоке города, на острове Медвежьем. Эти последние владели великой тайной скоромного самогона, который гнали из мяса ископаемых мамонтов: по окончании каждого поста, особенно Великого, набожные киммерийцы тянулись на Курковскую за этим напитком; на вкус он от постного, из ячменя, мало отличался, но происхождения был скоромного и очень древнего, и потому считался необходимым атрибутом каждого разговления. Мнения детей никто не спрашивал, да и мнения родителей — тоже. Архонтсовет постановил, архонт приказал. Преодолеть его приказ можно было разве что бунтом, а идти на такое — психов нет. Минойский кодекс куда как строг: за любую провинность, если надо начальству, предполагается смертная казнь. Если никого в обозримом прошлом так не наказывали, то это не значит, что лафа всем и навеки, и делай что хочешь. Киммерийцы умели и любили соблюдать собственные законы.
— Присаживайся, Мирон Палыч, — мирно и очень устало сказала кирия Александра. Покуда гость устраивался в монументальном каменном кресле, она извлекла из мусорной корзины замаскированную бутыль и тяжелые малахитовые стопки. — Будешь?
— Пока нет, — угрюмо отозвался Вечный Странник, но капюшон чуть-чуть приподнял. Из-под него на хозяйку уставились два красных угля, но ей было не впервой.
— А я, позволь, пригублю. Совсем меня за… закооперировали эти ходоки. Жалоба на жалобе. А я, между прочим, в России была бы уже на пенсии. По возрасту. Советские льготы царь не отменил.
— Ну и оформляй пенсию, — буркнул Вергизов, — завтра тебе Змея разомкну, иди да и оформляй. Сама же без работы и подохнешь.
— Не подохну, — сказала кирия, — а нa хрен подохну. Мы все-таки тоже Россия, а в России просто не подыхают, только или нa хрен, или уж и вовсе… Ну, будь. — кирия выпила. Дозу она приняла крошечную, граммов десять-двадцать, но по кабинету разлился ни с чем не сравнимый запах родной бокряниковой настойки. Видимо, архонт пила не ради кайфа, а для поддержания сердца — как все старики в Киммерионе, кроме Вергизова, который не только стариком не был, но и человеком-то мог считаться с большой натяжкой.
Предзакатный свет, проникая в западное окно, отражался от лазурита панели, но не спешил под капюшон Вечного Странника. Тот долго молчал, так и не давая понять — зачем он сюда объявился, собственно говоря. Не затем же, чтобы дать отчет о своих уроках старокиммерийского языка, которые он, как последний оставшийся специалист, давал городской детворе, из-за чего теперь страдала шкура Великого Змея. Зима была не за горами, к ней следовало готовиться, а Змей сильно запаршивел в последний год. Но Вечный Странник уже и на это махнул рукой. Впервые на бесконечном своем веку он перестал чувствовать себя полностью защищенным в Киммерии. При всеобщем положительном отношении к московскому царю, впервые рука его дотянулась до берегов Рифея. Вергизов знал, что за южным боком Змея, буквально в полусотне верст от Чердыни топчутся василиане ересиарха Негребецкого, крадут неведомыми путями экземпляры газеты «Вечерний Киммерион» — и переправляют их в Кремль, притом и управу на них искать пока нельзя, ибо со школьных уроков не отпросишься. Словом, смутно было в сердце у Мирона.
— Слово пo слову, — после долгой паузы сказал Мирон, — а вот этим — пo столу. Надо решать чего-то. — Вечный Странник достал из складок плаща нечто вроде хрустальной тарелки и поставил перед архонтом. Только с первого взгляда казалось, что это экспортный товар, знакомый каждому киммерийцу, то есть молясина на хрустальном круге. Кирия Александра, енотовидную собаку съевшая на разборках между гильдиями, в основном этот товар и производившими, сразу увидела неладное. Но не в том дело, что молясина была очень дорогая, куски горного хрусталя такого размера не валяются не только на дороге — их и на рынке по полгода не бывает.
На круглом хрустальном диске с помощью чертовой жилы стандартным способом была укреплена планка, вместе с фигурами Кавелей вырезанная из единого куска еще более драгоценной, чем хрусталь, древесины — из миусской груши, дерева-эндемика, растущего в единственной роще близ Левого Миуса. Каменными плодами этой груши по весне выкармливали оголодавших раков на отмели Рачий Холуй, — для охраны этой отмели и ее высокоделикатесных обитателей от браконьеров и стоял в Миусах гарнизон солдат срочной службы. Древесина же миусской груши была тверже алмазного сверла, она принадлежала архонтсовету вся, до последнего отбитого морозом сучка, она никогда не гнила, и к тому же славилась неспособностью откликаться ни на сглаз, ни на чох, ни на змеиный вздох. Ошибиться в породе дерева было невозможно, резкое чередование оранжевых и черных полос ни в каком ином материале не встречалось.