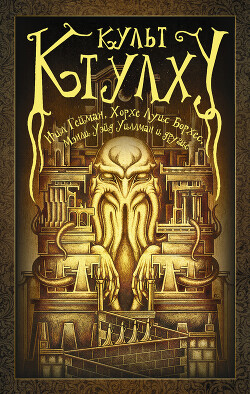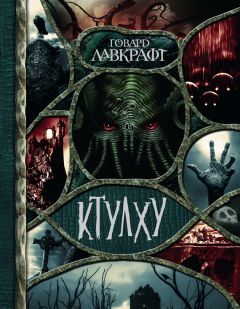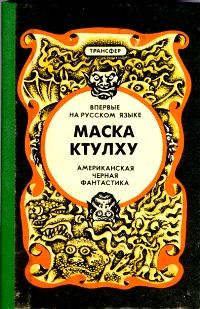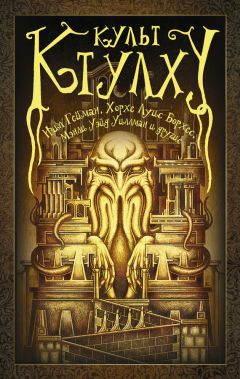Эти новости, как легко можно представить, изрядно меня встревожили. Сам знаю, что наиболее выдающаяся моя черта – любопытство. То самое любопытство, что свело меня с женщиной, совершенно на меня не похожей, – только чтобы выяснить, кто она такая и как с ней обращаться; потом заставило подсесть на лауданум (результаты совершенно не впечатлили), потом – увлечься трансфинитными числами… и, наконец, удариться в жуткую авантюру, о которой я как раз собираюсь вам рассказать. На свою беду я решил выяснить, что там да как с дядюшкиным домом.
Первым делом я отправился к Александру Муру. Я запомнил его высоким, черноволосым и жилистым – сложение говорило о большой силе. Теперь годы согнули его, а борода совсем поседела. Он принял меня у себя, в Темперли, в доме, предсказуемо выглядевшем копией дядиного, так как оба неукоснительно следовали стандартам неплохого поэта и крайне скверного зодчего – Уильяма Морриса [47]. Разговор вышел не слишком оживленный: чертополох – более чем красноречивый символ Шотландии. Тем не менее, я чувствовал, что щедро заваренный цейлонский чай и не менее щедрая тарелка сконов (которые хозяин дома ломал пополам и намазывал для меня маслом, словно я все еще был мальчишкой) являли апофеоз сурового кальвинистского гостеприимства, на какое только способен шотландец по отношению к племяннику старого друга. Их теологические разногласия с дядей всегда были для обоих эдакой партией в шахматы, где каждый из игроков до некоторой степени сотрудничает с противником.
Однако время шло, а к сути дела я так и не приблизился.
– Молодой человек, – молвил Мур после одной особенно неудобной паузы, – вы явно проделали весь этот путь не для того, чтобы потолковать об Эдвине или Соединенных Штатах – стране, которая крайне мало меня интересует. На самом деле вас беспокоит продажа Каса Колорады и ее странный покупатель. Меня, надо признаться, тоже. Вся эта история меня чрезвычайно огорчает, но вам я расскажу все, что знаю. Увы, это совсем немного.
– Еще до того как Эдвин умер, – продолжал он через какое-то время без малейшей спешки, – мэр вызвал меня к себе в кабинет. С ним был приходской священник. Они попросили меня набросать план для католической часовни и обещали хорошо оплатить работу. Я тут же ответил «нет». Я – слуга Господа и не могу осквернять себя возведением алтарей идолищам.
На этом он умолк.
– Это все? – рискнул спросить я по прошествии нескольких минут.
– Нет. Я к тому, что это еврейское отродье, Преториус, хотел, чтобы я уничтожил собственное произведение и возвел на его месте богомерзкого монстра. Много обличий у скверны, воистину много!
Все это он произнес очень серьезно, после чего встал.
На обратной дороге, заворачивая за угол, я столкнулся с Даниэлем Иберрой. Мы давно знали друг друга, как оно обычно бывает между жителями маленьких городков. Он предложил подвезти меня назад, в Турдеру. Никогда не любил шпану: наверняка мне грозила мерзостная литания жестоких и более-менее апокрифических закулисных россказней… и все же я сдался и приглашение принял. Была уже почти ночь. Когда в нескольких кварталах вдали показалась Каса Колорада, Ибера внезапно повернул в объезд. Я спросил, чего это вдруг, – и полученного ответа, признаться, не ожидал.
– Я – правая рука дона Фелипе, – заявил он мне. – Никто меня слабаком не назовет. Когда молодой Ургоити приехал искать меня аж из Мерло – помнишь, что с ним стало. Короче… Несколько дней назад возвращался я с вечеринки, а ярдах в ста от того дома вроде как увидел что-то. Конь мой попятился, и если бы я не крепко держал поводья в руках и не заставил его таки повернуть на ту улицу, не разговаривал бы я сейчас с тобой, вот помяни мое слово. А увидел я такое, что понятно, чего это конь перетрусил…
Тут Ибера добавил крепкое словечко.
Той ночью я так и не уснул. Лишь на рассвете мне привиделась гравюра, которой я никогда раньше не видел – или, может быть, видел, но забыл: в стиле Пиранези [48], с лабиринтом на ней. Это был каменный амфитеатр, окаймленный кипарисами и поднимавшийся выше их вершин, – без окон и без дверей, только с бесконечным рядом узких вертикальных бойниц. Вооружившись увеличительным стеклом, я искал внутри минотавра, и, в конце концов, нашел. Это было чудище из чудищ, больше бизон, чем бык. Простершись всей своей человеческой тушей на земле, он лежал, охваченный сном. Что, интересно, ему снилось? Или кто?
Тем вечером я специально прошел мимо Каса Колорады. Железные ворота были заперты, а некоторые из их прутьев – погнуты. То, что некогда было садом, теперь сплошь заросло сорняками. Берега неглубокого рва справа были все истоптаны.
Оставалось сделать еще один шаг, но я день за днем откладывал его – не потому что считал напрасной тратой времени, а потому что он приближал меня к неизбежному, к самому последнему из шагов.
Наконец, не питая никаких особых надежд, я отправился в Глев. Плотник Мариани оказался крепким, румяным итальянцем, простым и сердечным – и уже довольно преклонных лет. Одного взгляда на него оказалось довольно, чтобы выкинуть из головы все военные хитрости, которые я заготовил прошлой ночью. Я просто протянул ему свою карточку, которую он торжественно зачитал по складам, почтительно запнувшись на «кандидате наук». Я честно сказал, что интересуюсь мебелью, которую он изготовил для дома в Турдере, который некогда принадлежал моему дядюшке. Он начал рассказывать и рассказывал долго. Даже не стану пытаться перевести на понятный язык этот поток слов и жестов… Среди прочего он сообщил мне, что почитает главной своей обязанностью удовлетворять любые требования клиента, сколь бы дикими они ни казались, а потому выполнил всю работу буквально, по-заказанному. Порывшись в ящиках секретера, он продемонстрировал мне несколько документов, в которых я ни черта не понял; все были подписаны неуловимым Преториусом. (Не иначе как Мариани принял меня за адвоката.) Прощаясь, он сказал, что даже за все золото мира ноги его больше не будет в Турдере, не говоря уже о том чертовом доме. Нет, добавил он, конечно, клиент – это дело святое, но, по его скромному мнению, это сеньор Преториус совсем рехнутый. После этого он немедленно умолк, видимо, в раскаянии, и мне больше не удалось вытянуть из него ни слова. Я, в принципе, на что-то подобное и рассчитывал, но одно дело рассчитывать, и совсем другое – глядеть, как оно действительно происходит. Раз за разом я говорил себе, что совершенно не стремлюсь разгадать эту загадку и что вообще-то единственная настоящая загадка здесь – время, безупречное стечение прошлого, настоящего и будущего, «всегда» и «никогда». Впрочем, подобные размышления все равно ни к чему не вели: просиживая вечера напролет за Шопенгауэром [49] и Ройсом, [50] я потом каждую ночь все равно отправлялся кружить по грязным дорогам вокруг Каса Колорады. Иногда на втором этаже мне виделся проблеск очень белого света; иной раз я, кажется, слышал стон. Вот так я и развлекался вплоть до девятнадцатого января.
Это был один из тех характерных для Буэнос-Айреса дней, когда человек чувствует, что лето его не просто изводит и оскорбляет, но прямо-таки сживает со свету. Где-то в одиннадцать вечера разразилась гроза. Сначала с юга налетел ветер, потом водопадом обрушился дождь. Я заметался в поисках хотя бы дерева. Во внезапной молнийной вспышке я обнаружил себя в двух шагах от железной ограды. Не знаю, из страха ли, из надежды, но я попробовал ворота. Неожиданно для меня они отворились. Я бросился к крыльцу, подгоняемый бурей. Земля и небо хором грозили мне. Дверь в дом оказалась тоже открытой. Дождевой шквал хлестнул меня по лицу, и я вошел.
Плитка пола была почти вся выломана, так что я ступил в заросли травы. Тошнотворный сладкий запах заполнял дом. Справа или слева, уже не помню где, я споткнулся о каменный скат и быстро стал подниматься. Наверху я почти безотчетно повернул электрический выключатель.