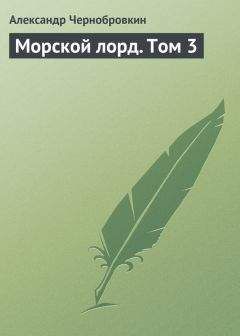— Почему?
— У нее было предчувствие.
— У нее постоянно предчувствия. Нельзя так себе потакать. Где будет шоу?
— В «Смоковнице и фазане». Ну, знаешь. Мясной ресторан.
О боже. Не самое любимое место Колетт.
— И кто будет?
— Я, Кара, Джемма, миссис Этчеллс, Мэнди и ты, если согласишься.
— Мужчин не хватает. Почему вы не позвонили Мерлену?
— Мы звонили. Но у него вышла книга, и он переехал в Беверли-Хиллз.
Колетт разозлилась из-за всего сразу: из-за новостей о Мерлене, из-за оскорбительного обращения в последнюю очередь и из-за того факта, что им придется выступать без подготовки в так называемом банкетном зале, в то время как в баре за стеной болельщики будут орать футбольные речевки с огромного телеэкрана, а кучка оборванцев в «семейной зоне» — мрачно грызть куриные кебабы в медовом соусе.
Она сказала все, что думает.
Элисон вытащила луноликую, укрытую вуалью Папессу. Папесса символизирует внутренний мир женщин, влюбленных в женщин, которые не могут разобраться в своих чувствах и склонны к инстинктивным порывам. Карта означает мать, в особенности вдовую мать, утратившую мужа женщину, необеспеченную, смиренную и одинокую. Она означает тайны, медленно всплывающие на поверхность, добродетель терпеливости, которая ведет к разоблачению, бархатные покровы будут сорваны, занавес отдернут. Она управляет колебаниями температуры и гормональными волнами в глубинах тела, не говоря уже о волнах судьбы, которые приводят к рождениям, выкидышам, несчастным случаям и играм природы.
Наутро Колетт спустилась все в том же дурном настроении.
— Что это? Полночный пир, мать его?
Весь стол был усыпан крошками, а ее драгоценная сковородочка для омлета лежала поперек двух конфорок, словно отшвырнутая чьей-то презрительной рукой, которая ее поматросила и бросила. Стенки ее были покрыты пригоревшим коричневым жиром, в воздухе стоял тяжелый дух жареного.
Элисон не удосужилась извиниться. Она не сказала, наверное, это бесы жарили. Что толку протестовать, если тебе все равно не поверят? К чему унижаться? Впрочем, подумала она, я и так унижена.
Она позвонила Сильване.
— Сильви, золотце, ты не знаешь, в «Смоковнице и фазане» найдется место, где я смогу поставить перед выступлением, ну, свой портрет?
Сильвана вздохнула.
— Если без этого никак не обойтись, Эл. Но честно, дорогая, кое-кто считает, что пора бы тебе уже отправить этот снимок в архив. Не знаю, где ты его только сделала.
О, ты хотела бы знать, подумала Эл, ты хотела бы знать, ты бы пулей туда помчалась, чтобы тебя так сняли.
— На этой неделе он еще послужит, — добродушно сказала она.
— Ладно, до завтра.
Назавтра, принявшись загружать вещи в машину, они не смогли найти ее шелка — ее шелка, ее абрикосовые шелка для драпировки портрета. Но они всегда, всегда, сказала она, лежат в одном и том же месте, если они, конечно, не в стирке, и, чтобы доказать себе, что они не в стирке, она вывернула содержимое сперва своей бельевой корзины, а потом и корзины Колетт. Она сделала это формально, она знала, что шелка исчезли или украдены. Уже с неделю Эл замечала, что из ее ванной и с туалетного столика исчезают мелкие предметы.
Зашла Колетт.
— Я посмотрела в стиральной машине, — сообщила она.
— И? Их там нет?
— Нет, — согласилась Колетт. — Но все равно советую взглянуть.
Колетт включила на кухне вытяжку и побрызгала освежителем воздуха. Но запах горелого жира никуда не делся. Эл наклонилась и заглянула в стиральную машину. Сперва она отдернула руку, но потом все-таки вытащила вещь наружу. Хмурясь, она подняла ее к глазам. Это был мужской носок, серый, шерстяной, с протертой пяткой.
Так вот к чему привели курсы Морриса, подумала она. Он упер мои шелка, и маникюрные ножницы, и таблетки от головы, достал из холодильника яйца и пожарил их. Он подсунул свой носок Колетт — возможно, скоро покажет ей всю ногу. Она оглянулась через плечо, словно он мог материализоваться целиком, словно мог сидеть на конфорке и дразнить ее.
— Ты впустила в дом того бродягу, — обвинила Колетт.
— Марта? Ты жестоко ошибаешься.
— Я видела, что он шатается поблизости, — настаивала Колетт, — и я решительно против того, чтобы он заходил в наш дом, пользовался нашей кухней и удобствами. Полагаю, именно он в ответе за поднятое сиденье в туалете, что я не раз обнаруживала за последние дни. Ты должна решить, кто здесь живет, Элисон: либо я, либо он. Что до сковороды и хлеба, который явно тайком был пронесен в дом, пусть они останутся на твоей совести. На свете нет такой диеты, которая позволяет жрать животные жиры в промышленных количествах и палить чужие сковородки. Ну а носок — полагаю, я должна радоваться, что не нашла его до того, как он был постиран.
В «Смоковнице и фазане», под более достойной вывеской, некогда располагался постоялый двор, и фасад здания все еще был забрызган грязью узкой оживленной дороги. В шестидесятых заведение практически пустовало, и лишь кучка престарелых постоянных клиентов ютилась по углам мрачных залов, где гуляли сквозняки. В семидесятых помещение купила сеть мясных ресторанов и отреставрировала его в стиле Тюдоров: стены облицевали фанерными панелями под дуб, расставили сиденья с глубокой простежкой, обитые грязеотталкивающим плюшем, которым так увлекались Тюдоры. Новое меню предлагало картофель, запеченный в фольге, с маслом или сметаной, треску или пикшу, на выбор, в панировке, а на гарнир — салат или сероватый, чуть теплый горох. С каждым десятилетием, с каждой сменой владельца эксперименты с тематикой ресторана продолжались, пока его оригинальное меню не приобрело ретро-шик и в нем вновь не появились коктейли из креветок. А также брускетта и рикотта.[49] И детские блюда с фигурными макаронами, кусочками рыбы и крошечными колбасками, похожими на пальчик Гензеля, по которому ведьма проверяла, достаточно ли он растолстел. В ресторане были пыльные занавески с рюшами и обои где-то в стиле Уильяма Морриса, моющиеся, но беззащитные против детей, которые вытирали руки о стены, как привыкли дома. В спортивном баре, где сигареты были под запретом, потолки выкрасили желтоватой краской, намекая, будто в нем годами предавались пороку курения табака; это проделали тридцать лет тому назад, и никто не собирался что-либо менять.
Чтобы пройти в банкетный зал, надо было прорваться через бар, мимо подмигивающих игральных автоматов. Колетт принесла всем выпить, загибая пальцы: Джемма, Кара, Сильвана, Наташа, четыре большие водки с тоником, мне тоже, так что пять, сладкий херес для миссис Этчеллс и газировка для Элисон. Внутренние стены были тонкими, пористыми; во время шумных повторов первых вечерних голов залы сотрясались, и кухонные запахи ударяли в ноздри медиумов, собравшихся в душной каморке за сценой. Настроение было боевым. Мэнди зачитала, кто за кем выступает.