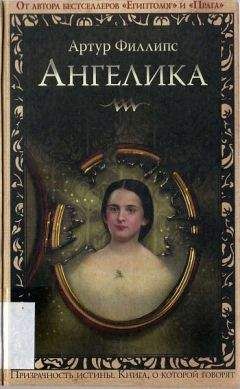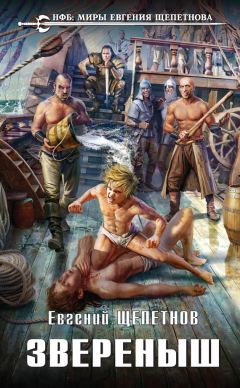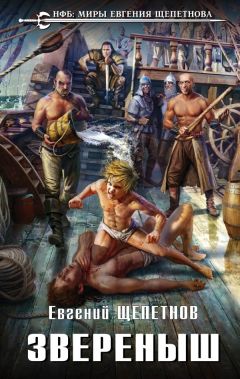На наш дом пала блеклая тень постановления суда: пропавший без вести выказывал множественные признаки спонтанной меланхолии, за коей с преобладающей вероятностью воспоследовало самоубийство либо оставление дома, вызванное умопомешательством. Затем нас посетил еще один гость: управляющий банком, отвечавший за распределение изобильного наследства, оставленного Джозефом девушке из канцелярской лавки.
Мать учила меня благодарить за все наше благосостояние науку Энн Монтегю: «Наша подруга спасла нас, моя любовь». Я спала бестревожно. Констанс также восстановила сон, видимо, впервые в жизни очутившись в безопасности. Нам послужил весь опыт Энн: заклинания, аккуратными кругами уложенные лепестки роз, растертые травы под окнами. Мерзкое привидение и его живой хозяин были изгнаны, а куда — не важно. Нам прислуживала Нора, и мы жили втроем спокойно и счастливо в очищенном и прелестном доме на Хикстон-стрит.
Хотя отсутствие отца было абсолютным и гарантированным, он все-таки приходил. Констанс постепенно крепла и уверялась в том, что каждый получил по заслугам, однако иногда она видела его во сне и в первые моменты пробуждения приписывала тяжелое утешительное дыхание рядом с собой джентльмену, что забрел в лавку Пендлтона и вознес ее прочь от работы и уныния. Щурясь в умирающей тьме, она улыбалась ему, ввиду расстояния пребывая в безопасности, и крепче сжимала огромную руку под одеялом, находя утешение в массивности подруги и защитницы, не замаранная мужеской мглой.
Видела ли я, как он бинтует ей порезанную руку, затем выворачивает, тычет пальцем ей в лицо, требуя объяснить, откуда взялся огонь в моей комнате? Нет, если для этого мне нужно было подняться по лестнице, ибо моя перевязанная нога пульсировала от боли. Значит, позже мать рассказала мне о том, что случилось наверху, пока я дремала в полях лигрофантусов. Однако такого разговора я не помню.
Зато отлично помню бабочку, найденную на отдыхе августовским вечером. Тут я в себе уверена. Помню, как мать злилась на отца за то, что он поощрил мой интерес к изуродованному насекомому, хотя, разумеется, не знаю, что оно ей напомнило, какие вызвало ассоциации или воспоминания о другом дне, другой бабочке, другом отце. Я была достаточно взрослой, дабы заметить, что являюсь непосредственной причиной недовольства родителей друг другом. И отец и я были матери противны. Ее отвращение от меня не ускользнуло; помню, как я тревожилась, желая вернуть ее любовь. И я заболела. Легко? Тяжело? Воображаемо? Я знаю, что ответ не имеет значения, и знаю, что он утерян безвозвратно.
Заботливость матери была столь неослабной, что я замечала лишь ее недостаток, как замечаешь воздух, лишь когда он разрежен. А вот взгляд отца — даже неодобрительный или брезгливый — высоко ценился мною как истинная редкость. Я пускалась во все тяжкие, дабы завоевать его внимание, понимая притом, что должна действовать осторожно, ибо мать не желала, чтобы я услаждала отца чрезмерно. Однажды утром, когда мать была внизу, я попыталась разбудить отца, подув ему в ухо. Я стояла рядом с постелью, голые ноги мерзли. Я сдвинула толстую багровую портьеру, лишь вцепившись в нее обеими руками. Я дула, и черные волосики, покрывавшие его ухо, колыхались. Не просыпаясь, он отмахнулся от помехи и, если я правильно помню, попал мне в глаз тыльной стороной ладони, но так и не проснулся.
Если позднее мать и спрашивала меня о синяке под глазом, я, конечно, защитила отца и сладостное тайное воспоминание о том, как резко он дернулся во сне потому лишь, что я его щекотала.
Я помню, как он брил бороду, и новый отец, оторвав свое кровоточащее, мокрое лицо от умывальника, поймал мой взгляд в зеркальном стекле. Он говорил о прощении отца и явно гордился их заново открытым сходством. Быть может, Констанс поняла его в том смысле, что должна простить собственного отца? Либо простить Джозефа за то, что он уподобился ее отцу? Ибо в конце концов он обманул ее ожидания. Он не был ни принцем, ни спасителем, ни даже пылким италийцем, ни другом или защитником. Он оказался только (и становился все более!) отцом, играя роль, кою Констанс рано научилась воспринимать с подозрением.
Я предполагаю, что истинное наваждение — это не столько нашествие прозрачных паразитов, сколько осадок ингредиентов, кипение отвара, что нагревался годами.
Неожиданно пар оплавляет фасады реальности. Возможно, для иных обитателей дома появление невидимых сил или зримых призраков почти неудивительно. Эти обитатели давным-давно почуяли тьму, что подступала или селилась в стыках семейных отношений. Они словно бы тревожатся, но не способны выразить тревогу в словах, и в конечном счете их ощущения выражаются в призраках.
В испарениях нашего перегретого дома образы прошлых лет проросли в душе Констанс, как грибы во влажной почве, пока не грянул, усугубляясь с каждым днем, кризис, и все ею видимое не взорвалось блистающей, близящейся памятью: окно в новой спальне ребенка, ночной запах мужа, его выбритое лицо, инструмент стекольщика на столе в его лаборатории, совпадение двух похожих, перевернутых имен.
Расплывчатые, но болезненные воспоминания, странные ассоциации, наслоение незначительных подробностей, из коих составляются декорации равно памяти и сновидений. Констанс взглянула на окно в моей новой спальне и вспомнила об окошке комнаты, где ребенком провела столько времени: круглое окошко, поделенное рейками на восемь секций, словно пирог. Шесть просвечивали, а две — не по центру — были цветными: одна — красная, как вишневая мякоть, вторая — неприятная грязно-бурая, неудавшаяся зеленая, воплотившая в себе одну из первых попыток ее отца, стекольщика, окрасить стекло. Ребенком, коего почти ничто не занимало, Констанс замечала перемену в окне в продолжение дня: от слегка подцвеченной черноты перед самым рассветом и утреннего сияния до послеобеденного потемнения, после чего на цветных стеклах и деревьях за ними двумя желтыми конусами воцарялись отражения горящих свечей. Окно было оком Господа, ибо: «Око Господа вечно следит за тобой, — часто говорила ей матушка. — Он следит за тобой, даже когда ты одна». Однако по ночам, когда свечи погашались и Констанс не видела Его ока, Господь, быть может, моргал или даже спал, и воздух густел, и глаза ее жег безымянный аромат, и борода царапала ей лицо.
Аромат оставался неименуемым долгие годы: она была слишком юна, чтобы называть его «виски», и не обоняла его ни в Приюте, ни в квартире, где жила с Мэри Дин, ни даже после того, как обручилась с Джозефом, ибо виски он не пил. Но однажды ночью аромат вернулся, проник в ее дом на одежде мужа, в ту самую ночь, когда он изгнал меня из рая моего детства.