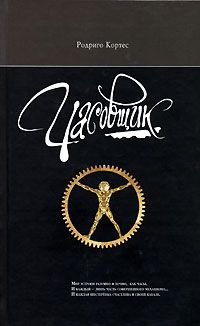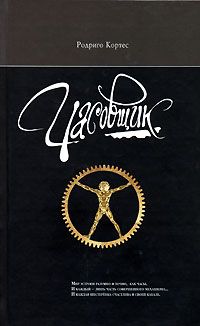Отец Клод ушел в себя, а потом тряхнул головой и вытер брызнувшие слезой глаза.
— Боже, как красиво…
Сравнить историю Церкви с ходом Божественных часов, где полночь означает рождение Иисуса, а полдень — расцвет христианства, это было действительно красивое решение. Но главное, эту схему понял бы любой, даже самый тупой архивариус.
— Но у меня есть просьба, — не дал ему насладиться внезапными перспективами Гаспар.
— Проси что хочешь, — растроганно положил руку на сердце влиятельнейший ватиканский историк.
— У меня друг… в Инквизиции Сарагосы. Томазо Хирон. Я хочу, чтобы он вышел.
Отец Клод кивнул и тут же записал данные арестованного еретика.
— Он выйдет. Гарантирую.
Томазо всегда подозревал, да что там подозревал — знал! — что к тому времени, когда их разложили на полу, эти содомиты имели уже очень много личного — и к нему, и к Гаспару. Но когда униженного, обессилевшего Томазо попытались заставить помочиться на распятие, он отказался.
Тогда его прогнали по второму кругу. И уже тогда стало ясно: этот бастард скорее даст себя убить, чем перешагнет через последний рубеж.
— Надо любимый прием Трибунала использовать, — предложил один.
И тогда его привязали к косому Андреевскому кресту, раздвинули челюсти, загнали в рот воронку и лили воду до тех пор, пока живот не раздуло, как у беременной девки.
— Переворачивай, — скомандовал старший.
Его перевернули и, не отвязывая от Андреевского креста, приподняли — точно над уложенным на пол распятием.
— Никуда он не денется. Помочится.
И только тогда Томазо заплакал.
Бруно набрасывал схему Единого Христианского Календаря, логичного, как циферблат, играючи. Собственно, это и был циферблат — со столетиями вместо часов. Единственное, что изрядно раздражало, так это постоянно поступающие коррективы сверху.
— Надо, чтобы открытие Нового Света католиками произошло точно в 7000-й год от сотворения мира 44, — зачитывал по бумажке Гаспар. — Это пожелание Совета по делам обеих Индий.
Бруно пожимал плечами: надо — значит, надо. Но уже через пару часов Гаспар снова приезжал на своих «ретивых» и зачитывал новую коррективу.
— Размести на 7000 году еще и очищение христианской Европы от всяких евреев и магометан 45. Это приказ из канцелярии Папы.
— Ладно… — вздыхал Бруно. — Приказ так приказ.
А еще через час поступало новое требование.
— Сделай так, чтобы по еврейской шкале дата изгнания их из Европы была кратна тринадцати. Этого хочет Святая Инквизиция.
— Уже сделал, — кивал Бруно. — 5252 год 46 пойдет?
Он давно понял, что цифру 13 надо присваивать всем врагам Церкви. Поэтому и число всех неримских Пап, называемых Антипапами, у него было равно 39, то есть целых три раза по 13.
— Прекрасно… — бормотал Гаспар. — А какую дату ты присвоил Унии Западной и Восточной Церквей?
Бруно перевернул листок. Он знал, как важна дата символического подчинения Востока Западу.
— Самую красивую… 1440 год. Это как раз число минут в полных сутках, и означает оно, что время Восточных Церквей истекло.
Гаспар счастливо потирал руки. Отвечающая этому году еврейская дата — 5200 — прекрасно делилась на 13, давая в остатке ровно 400. А католическая дата Унии — 6948 47 год от сотворения мира — при делении на 19-летний лунный цикл давала число дней в году.
— Неплохо… неплохо… — удовлетворенно бормотал Гаспар.
Он уже видел, что к этой филигранно выверенной дате ни у кого претензий не будет: ни у астрологов Папы, ни у Святой Инквизиции, ни тем более у Совета по делам обеих Индий.
И только Бруно смотрел на всю эту суету сверху вниз. Заказчик имел право на мелкий каприз. Никто из них и понятия не имел, что в веках отпечатается совсем не то, на что они все рассчитывают.
Вернувшись в камеру после допроса, Томазо отошел в сторону, сел спиной к стене и закрыл глаза.
Ему объяснили, зачем было нужно это испытание сразу после приема в Орден, внятно и просто.
— В нехристианском мире нас ненавидят, — прямо сказал настоятель. — И чтобы доказать, что вы не христиане, вам придется топтать распятие в каждом порту. И ни одна мышца ваших лиц при этом дрогнуть не должна.
Это было правдой, и Томазо даже не считал, сколько раз ему приходилось это делать потом.
— Но есть еще кое-что, — сказал настоятель. — Наших агентов иногда раскрывают.
Позже Томазо узнает кое-что о судьбе четверых таких.
— Мы научим вас терпеть любую боль, — заверил настоятель. — Вы познаете, каково это — спокойно наблюдать, как вам отрезают пальцы.
Настоятель не врал: их действительно этому научили.
— Мы научим вас держать страх в узде, — пообещал настоятель, — вы и сами уже преодолели половину своих страхов.
Это было так. После того, что им пришлось преодолеть, страхов почти не осталось.
— Но есть то, чему не научишь, — покачал головой настоятель. — Это можно только пережить. И это — унижение. Теперь вы через это прошли.
Лишь на втором году обучения им открыли второй уровень правды, а Томазо узнал, сколь внимательно следили за каждым этапом испытания преподаватели. Они отмечали все: кто кидается на помощь, а кто просит ее; кто держит удар, а кто уклоняется; кто способен организовать остальных, а кто сам примыкает к тому, кто сильнее. И все имело значение. Потому что именно так будет поступать этот человек всю его жизнь.
А когда Томазо принял первый обет, ему открыли еще один, третий слой истины.
— Завтра вам придется их ломать. Всех, — подвели его к окну, за которым стояли около сорока только что отужинавших новичков. — Теперь вы знаете почему.
Томазо кивнул. Именно в то короткое, почти неуловимое мгновение, когда человек ломается, он и получает животный ужас перед Орденом — на всю жизнь. Даже если и не осознает, что боится.
И самые сильные, такие, как он и Гаспар, были и самым лакомым кусочком, и самой большой бедой. Их нельзя было бросать на полпути, удовлетворившись формальным надругательством. Их следовало тащить до конца. До слез полного бессилия.
Гаспар четырежды напоминал отцу Клоду о его обещании и добился-таки, чтобы историк при нем написал и отправил требование об освобождении Томазо Хирона в папскую канцелярию.
— Теперь показывай! — нетерпеливо приказал отец Клод. — Я же знаю, что это не ты придумал!
И лишь тогда Гаспар показал изнемогающему от любопытства историку Часовщика.
— А почему в цепях? — оторопел отец Клод.
— Он преступник, — отмахнулся Гаспар.
Но историк уже ничего не слышал и порывисто перекладывал разбросанные по всему столу чертежи.