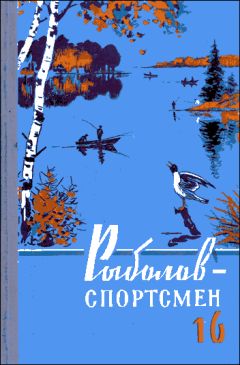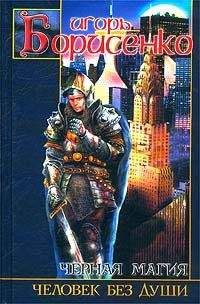От неожиданности я опускаю лесу.
Ушла!
Но рыба крепко сидит на крючке. Словно тяжелое бревно, ходит она кругами на леске. Начинаю вновь подтягивать, рыба упирается. И в это самое время вижу, как дернулась и натянулась леска второй закидушки. Что делать? Машинально хватаю конец ее и заматываю за ногу.
Через несколько минут я уже вытаскиваю первую закидушку. На берегу бьется красавец сазан. У него короткая голова и толстая, сильная, мясистая шея. Ударяю его головой о песок и, не снимая с крючка, бросаю далеко в траву.
Леса второй закидушки режет мне ногу. Тащу вторую рыбу. Она идет кругами. Такой же бросок из воды. Но теперь леску я не отпускаю: ведь у сазана острое, зубчатое, как пила, перо на плавнике, пройдет леса по нему, чик — и пополам. Не даю рыбе повернуться, тяну. Проходит минута, другая — и в траве на берегу бьется еще один сазан.
Теперь я уже не думаю ни об удочках, ни о других закидушках. Едва-едва успеваю забрасывать одну и тащить. Клюет беспрерывно, хватки следуют одна за другой. Признаюсь, я ничего подобного не видел и не переживал раньше. Двенадцать больших рыбин! С каким упорством приходилось вытаскивать их из глубины и подводить к берегу! А они отчаянно упирались, хитрили, старались оборвать лесу и нырнуть.
Так шел лов. Прошло около часу. Я — в жару, в рыбачьем экстазе.
Быстро светает. И, когда первый луч солнца ласково скользнул по воде, заискрились всеми цветами радуги росинки на траве и листьях деревьев, клев как-то сразу прекратился, словно его кто-то обрезал. Сколько я после этого ни забрасывал, ни одной поклевки не было.
Я собрал рыбу, уложил ее рядком и прикрыл сочной, душистой травой. Какая отрада для рыбачьей души: тринадцать сазанов — один в один!
Только теперь я вспомнил об удочках. Размотал и забросил их. Раза два клюнул мелкий окунишка, и на одной из удочек червя съел ерш.
Часа через два подошел Шульга. Он весело насвистывал арию Тореадора, торжественно держа на кукане двух небольших окуньков, плотичку и одного подлещика.
— Видал, — приподнимает он кукан, — вот клевало, так клевало! А у тебя как?
Я пожимаю плечами.
— Вот видишь! — самодовольно смеется он. — Говорил я тебе! Разве настоящий рыбак укажет место. Какая здесь рыба! Ну, не горюй. Попроси хорошенечко, окунька уступлю, не так совестно будет идти домой. А то засмеют, ей-богу! Эх ты, рыболов!
— Дай мне подлещика, — решаю испытать я его, — у тебя вон каких два окунища, да и плотва на кукане.
— Ну это дудки! Такую рыбину отдать! У тебя губа не дура! Ловить надо уметь!
— Не дашь?
— Не дам!
— Ну дай хоть пару окуньков.
Шульга отрицательно качает головой.
— Ну как знаешь!
Явно довольный отказом, он садится на берег и свешивает над водой длинные волосатые ноги. Как у заправского рыболова, его брюки закатаны выше колен.
Я неторопливо сматываю удочки.
— Быстрей, быстрей, — говорит он, — к подъему не успеем!
— Почему не успеем? Еще только пять часов.
— Тебе хорошо, ты налегке, — подтрунивает Шульга, — а у меня как-никак рыба, — приподнимает он кукан.
— Это как сказать. С твоей рыбой на старт выйти можно. А вот как мне быть, кто за меня рыбу понесет?
— О-хо-хо! Уморил! — хохочет Шульга. — Я бы на твоем месте и в часть не показался. Рыболов!
Ну погоди, думаю. Я наклоняюсь и сбрасываю с рыбы траву. Перед глазами ошеломленного Шульги возникает целая груда рыбы, да какой!
— Э... да... — только и может сказать он и, когда возвращается к нему дар речи, кричит: — Не обманешь! Не может быть, дудки! Это тебе кто-то наловил! Знаю я тебя! Удочкой не поймаешь!
Он опускается на колени и перебирает рыбу. Я вижу, как мелко-мелко дрожат у него пальцы. Вот она, эта рыбачья страсть. Теперь наступает и мой черед подтрунить.
— Рыбка что надо. Это тебе не два окунька и плотичка. Окунька пожалел! Эх ты, рыболов-спортсмен! А говорил, я мастер ловить. Ладно. Бери себе парочку, с меня и остальных хватит.
— Шутишь?
— Бери, когда дают!
Шульга хватает двух сазанов и торопливо насаживает их на свой кукан.
— Ну вот, так солиднее, теперь и впрямь можно сказать рыбий профессор!
Он молчит.
Ни сетки, ни вещевого мешка у меня нет. И я попросту нанизываю рыбу на кусок тонкой бечевки, завязываю ее узлом и взваливаю на плечи.
Мы идем вдоль берега. Возле нашей лодки стоит ботник деда. Сам он сидит у воды и чистит рыбу. На дне ботника — с полсотни подлещиков и плотичек.
Бакенщик приветливо кивает головой.
— Ну вот и рыбка. Хороша! Важнецкая! В этом месте ловили?
— В этом, дедушка. Спасибо тебе! Выбирай себе любую. — И, сняв с плеча связку, я протягиваю ее деду.
— Да что ты, что ты! — отмахивается он. — Зачем мне? Ты раненым снеси. Пусть свежей рыбки покушают. А я вот грешным делом подумал: много ль удочками наловят? Помочь бы ребятам. Проехал малость вдоль бережка, подъемничек побросал. Попалась, — указал он на лежащую на дне ботника рыбу. — Вот берите и ее. — Старик весело щурит глаза, и добрая отцовская улыбка играет на его губах.
— Зачем, дедушка?
— Ничего, ничего, милый. Пусть раненые покушают. А мне этой чищеной с лихвой хватит. Надо будет — вечерком еще побросаю.
— Ну спасибо, дедушка!
Мы перебрасываем рыбу в свою лодку и, тепло попрощавшись с бакенщиком, пересекаем Волгу.
— Вот это рыба! — никак не может успокоиться Шульга. — Вот что значит Волга-матушка!
Лодка быстро скользит по воде. Мимо проплывает наш вчерашний злополучный островок. Через пятнадцать-двадцать минут мы уже у берега. Стучимся в окно. Как и вчера, к нам выходит старуха.
— Хороша рыбка! — одобрительно качает она головой. — А я глаз не сомкнула. Ведь позапамятовала бредешок вам дать, он у нас в сарайчике. Думаю, вернутся без рыбки, родные мои.
Шульга кладет на крылечко удочки и закидушки.
— Получай, бабуся, свое хозяйство, все в целости, в аккурате.
Сняв с бечевки парочку сазанов, я протягиваю старухе рыбу.
— Что ты, милок! — замахала она руками. — Ни в жисть! Да рази можно! Бойцы раненые рыбку ждут.
Нам стоило большого труда уговорить ее взять одного сазана.
— Русский человек, какая у него душа! — шагая по дороге, рассуждал Шульга. — Нужно — последнее отдаст. Вот старуха, одна-одинешенька... бакенщик! Такой народ все вытерпит, все перенесет!
Наконец мы добрались до госпиталя. Первой нас увидела медсестра. На ее крик сбежались все, кто был на дворе.
— Вот это улов! — восхищались все. Вытирая о передник свои красные руки, шеф-повар радостно говорил: — Отменная рыба, первый сорт... Хватит тут на уху и на жаренку.
Вечером, перед отбоем, я захожу в восьмую палату. Белов лежит на койке. Голова его покоится на высоко взбитых подушках. Большие впалые глаза смотрят на меня с благодарностью.
— Ну, как дела? — спрашиваю я.
— Теперь пойдут на поправку, — отзывается его сосед.
— Душу отвел, словно полегчало, товарищ политрук. Спасибо вам, — тихо говорит Белов, — ведь наша рыба, волжская. Поправлюсь — непременно приезжайте!
— Это уже после войны.
— Вот-вот именно, — обрадованно говорит он, — в Чернопенье. Вот где половим... Места у нас! — Глаза его заблестели, и весь он как-то ожил. — А клюет... — Он не договаривает, что-то давит ему в груди, и он тяжело, с надрывом кашляет.
— Ну вот, опять вы разговариваете, Белов, — строго сказала внезапно вынырнувшая из-за моей спины сестра, — вам же нельзя говорить, лежите тихо!
— Эх, сестра, сестра, все-то нельзя да нельзя. А мы не просто разговариваем, а о рыбной ловле толкуем, понимать надо!
В коридоре сестра догнала меня.
— Ну как Белов? — спросил я.
— Да повеселей стал, завтра отправляем баржей. Поправится...
Большое это дело — рыбачья страсть! Вспомнятся дни, проведенные на рыбалке, и в тяжкие минуты становится легче человеку, и глубже любит он свою родную русскую природу, свою великую Родину.